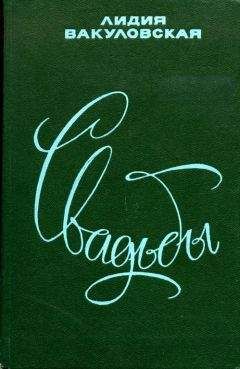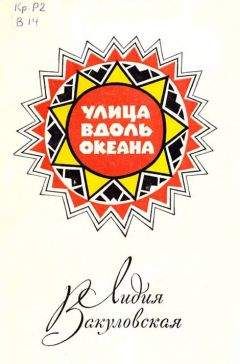В эти часы и пилоты и пассажиры во всех гостиницах великой северной трассы до мелочей похоже коротают время — спят, едят, режут в карты, забивают «козла», дуются в благородный преферанс, дремлют над припасенной специально в дорогу книжонкой, тянут спирт или пропускают «голубой Дунай» — предательскую смесь спирта и коньяка. Это называется «делать погоду».
Тридцать шагов — это шесть дверей слева, шесть — справа. Итого двенадцать комнат.
В комнате Ушарова — шум и гам. Стучат по столу костяшки.
— Дубль шесть! — кричит Саша Рокотов.
— Шесть — пусто! — это уже радист Митя.
Сражались вчера, сражаются сегодня, могут сражаться неделю и две.
За соседней дверью такой же галдеж.
— А ты мне скажи, почему мы не строим на свайном фундаменте? — настырно допытывается у кого-то баритон. — Думаешь, сваи не для Чукотки? Нет уж, дудки! У меня в портфеле такие цифры и расчетики — мина здешним строителям. И подложу!
Следующая дверь чуть приоткрыта. За дверью мягкие женские шаги. Вероятно, женщина укачивает на руках малыша.
— Ве-те-р по морю гу-ля-ет и ко-рабли-к подго-ня-ет, — нараспев монотонно декламирует она.
У дверей на кухню курят двое: пожилой, низенький человек в меховой безрукавке и кряжистый парень в толстом зеленом свитере. На груди у парня замерли в упряжке два белых оленя. Не дойдя двух шагов до них, Ушаров поворачивает, слышит последние фразы человека в безрукавке:
— Я ему только сказал: если вам кажется, что у нас на Севере не любят свежие огурцы, то пусть вам это не кажется. После этого он не имел мне, что ответить. Летом наш прииск получит огурцы. Но это мне стоило десять литров моей крови…
Докурив папиросы, оба пассажира исчезают. Ушаров видит, как за ними закрываются двери в комнату. Эти двое отвлекли его внимание. Он, кажется, о чем-то думал сейчас? Да, Апапелх — о чем еще он может думать? Черт знает что с ним творится! Сутки не спит, и сутки не выходит из головы Апапелх. Вернее, не Апапелх — больница. С кем-то стряслась беда, он вез хирурга — и не довез. Даже не попытался приземлиться. Мало ли что мог приказать «Пингвин»!.. Ерунда какая-то получилась.
«Старею, что ли? — подумал он. — Старею и боюсь рисковать?»
Больше всего мучила неизвестность: что там в больнице, в каком состоянии больной? Сколько он ни пытался установить с Апапелхом связь, тот не отвечал. Разговор по радио с командиром отряда ничуть не утешил его.
— Моли бога, старик, что не пошел на посадку. Угробил бы себя и машину, — назидательно втолковывал ему командир.
Командир не отменил задания, приказал дожидаться в Крестовом, пока не откроется Апапелх.
Но кто скажет, когда он откроется?
Ушаров поравнялся с кухней. Оказывается, на кухне есть люди. Вернее, один человек: пассажирка, которая летит в Апапелх.
С той минуты, как приземлились, Ушаров не встречал ее. Хотя знал, остановилась она в этой же гостинице (где же ей еще остановиться?). Она, пожалуй, не видит его, потому что лицо ее повернуто к окну. Полная рука подпирает щеку.
Неожиданно Ушаров вспомнил свой далеко не вежливый разговор с нею, когда он прогнал ее от дверцы самолета, и ему захотелось как-то сгладить свою вину. Чем-то утешить эту женщину.
Он подошел к кухонному столику, за которым она сидела, дружески спросил:
— Вы давно в этих краях живете?
Женщина чуть вздрогнула от неожиданности, повернулась к нему, вытерла платочком мокрые глаза.
«Кислая особа», — слегка поморщился Ушаров, не терпевший женских слез.
— Ох, в первый раз я сюда, — негромко сказала она и опять поднесла к глазам платок.
И как тогда, во время полета, Ушарова снова начала раздражать эта женщина. Такая, чего доброго, возьмет и заголосит, запричитает. Но она не заголосила. Она вытерла насухо глаза, безо всякой связи сказала:
— А вы туфли свои сняли… Я думала, как это вы в них по морозу ходите? — Она еще раз взглянула на его унты, добавила: — В таких меховушках совсем другое дело.
Ушаров, конечно, мог бы объяснить ей, что только перед тем, как подняться в воздух, он надевает легкие туфли, чтобы спастись от жары в кабине. В другое же время он, как и прочие северяне, предпочитает им унты или меховые ботинки. Впрочем, не он один. Так поступают все северные летчики. Он мог бы сказать все это, но вряд ли такая проза интересовала женщину. Она уже говорила совсем о другом:
— Как подумаю, куда меня занесло, сердце заходится. Дико здесь и пусто. И сынишка у меня в Запорожье остался. Вот и разрывается сердце.
Ушарову показалось, что женщина снова собирается заплакать. И, чтобы предотвратить это, сказал первое, что пришло на ум:
— Надо было сына сюда забирать. Здесь ребята растут хоть куда парни.
— Нельзя, — покачала головой женщина. Вздохнула и повторила: — Нельзя его сюда. Вот лечу, а сама не знаю, может, скоро и назад вертаться.
Ни тогда, ни после Ушаров так и не понял, чем было вызвано неожиданное откровение женщины. Он ни о чем не спрашивал, ничем не пытался заслужить ее расположение, а она вдруг заговорила о себе:
— Плохо у меня с мужем получилось. Не такой он, как другие, людей он не любит. Ни друзей у него, ни приятелей. Куда ни поступит, все какие-то дела против других заводит. И хоть бы что серьезное было, а то так, — она вяло махнула рукой. — Характер уже такой, что ли? Устала я с ним. На работе нигде не держится, всем на свете недоволен. Уж расходиться решила, а вот куда за ним еду. Не знаю, что будет, а еду. Клялся, что на новом месте другую жизнь начнет… А вы говорите, почему без сынишки?
Ушаров многих знал в Апапелхе. Еще бы, поселок маленький, русских — по пальцам перечтешь. Слушая невеселую исповедь женщины, он перебирал в памяти своих тамошних знакомых. Но, как ни странно, не видел среди них того, о ком она рассказывала.
— И давно ваш муж в Апапелхе? — спросил он.
— А вы там кого-нибудь знаете? — в свою очередь спросила она.
— Почти всех. Но его, пожалуй, не знаю.
Женщина помолчала. Потом негромко и просто ответила:
— И хорошо, что не знаете. Может, и впрямь переменится человек.
Коридор неожиданно наполнился голосами. Захлопали двери. На кухню в полном сборе ввалился экипаж Ушарова. С ними был и Блинов. Лицо хирурга распухло от долгого сна, под глазами нависли мешки. Рокотов постучал пальцем по часам на руке.
— Ушак, ровно два.
Ушаров повернулся к женщине:
— Пойдемте в столовую. Славно пообедаем.
Блинов понимающе осклабился, подморгнул Ушарову.
— Пойдемте! — настойчиво предложил Ушаров, не удостоив хирурга взглядом.
— Спасибо, — ответила она и покачала головой. — Не хочу есть. Посижу лучше здесь.
Надежде Петровне Тюриковой действительно не хотелось есть.
А последний раз она ела сутки назад — еще в Хабаровске.
Пурга бушует в Апапелхе. Ломится в дом Опотче.
Ася Николаевна открыла глаза. Комната была красной — от раскаленной плиты. Потому что спать уже совсем не хотелось, Ася Николаевна поняла, что уже день. Не утро, а день.
Она вытянула из-под одеяла руку, посмотрела на часы, которые так и не сняла перед сном. Часы стояли. Она негромко, вполголоса окликнула Опотче. Ответа не последовало. Тогда она приподнялась на кровати, осмотрелась. Опотче в комнате не было.
Обрадовавшись, что он, вероятно, вышел в сени, она поспешно встала, оправила смявшиеся брюки, взяла с табуретки валенки, сушившиеся у духовки, надела их. Валенки были горячие, ноги сразу попали в тепло. Потом повернула выключатель, но электричество не зажглось. Увидев на столе лампу, догадалась, что оборвало электропроводку: Опотче приготовил лампу.
Ася Николаевна зажгла лампу. Умылась. Поискала глазами зеркало, чтобы расчесаться. Складное зеркальце стояло на столе рядом с бритвенным прибором. Помазок был еще мокрым. Выходит, он недавно брился, Опотче.
«Где же он?» — подумала Бабочкина.
Прошло порядочно времени, как она хозяйничает в комнате, а Опотче не появляется. Ася Николаевна толкнула дверь в сени. Из сеней на нее глянула пустая, ледяная темнота. Пол был завален снегом, в снегу застыли глубокие следы. Сомнений не было: Опотче ушел. Бабочкина закрыла дверь. Стояла у порога, силясь сообразить, куда он мог отправиться в пургу.
Ходики на стене, как назло, тоже не шли. Стрелки остановились: маленькая — на двойке, большая — на двенадцати. То ли они замерли на двух ночи, то ли на двух дня. Ася Николаевна качнула маятник. Ходики весело затикали, отсчитывая минуты неизвестного времени.
«Как в сказке — чем дальше, тем непонятнее», — подумала она.
Неожиданно она вспомнила ночной разговор за стеной. Вот где Опотче — у соседей! У соседей сейчас тихо, ребенок не плачет, уснул, наверное. Что он, Опотче, прячется от нее, что ли? Во всяком случае, гоняться за ним по соседям она не собирается. Хочет он того или нет, но она дождется его в его собственной квартире. Правда, ведет он себя по меньшей мере странно. Вместо того чтобы поговорить с нею о делах, он вчера предпочел весь день молча строгать копылья, а ночью отправился развлекать ребенка. Что ж, пусть развлекает, если ему это нравится. Ей неплохо здесь и одной. Похоже, что, уходя, он даже позаботился о ней. Плита горит, у плиты — два полнехоньких ведра с углем. На стол выложены галеты, сахар, стоит чистая тарелка, на тарелке — ложка. Ешьте, мол, не стесняйтесь, ешьте все, что найдете. А найти не так-то трудно, особенно если ты изрядно проголодался.