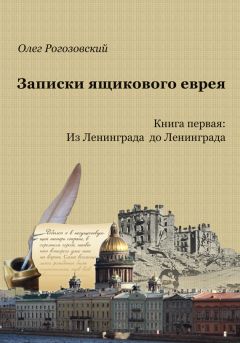Я все чаще вспоминаю офицеров, которые преподавали нам в училище. Какой чистой совести были эти люди.
Я помню капитана третьего ранга Хватова. Он преподавал управление артиллерийским огнем. Безжалостно уничтожал он наши надежды на субботнее увольнение в город «гусями», то есть двойками.
Черный, худощавый, желчный и очень талантливый. В прекрасно сидевшей на нем форме; с теми скупыми, точными и пластическими движениями рук, которые принято называть «аристократическими», хотя Хватов был так же далек от любой аристократии, как всплески наших залпов от цели; тяжко больной язвой желудка; прошедший от Сталинграда до Берлина на бронекатерах речных флотилий, штурмовавший Пинск, севший на мель под Пинском в пятидесяти метрах от немецких «тигров»; прыгавший через отмели на полных ходах вперед, когда сразу после «полного вперед» дается «полный назад» и волна, которую тянет за собой корабль, догоняет его и перекидывает через перекат, а иногда… не перекидывает…
Или преподаватель минного оружия, капитан второго ранга, фамилии которого не помню, весь дергающийся, девять раз подрывавшийся на минах и оставшийся жить, очень злой, часто несправедливый, мелочно-придирчиво требовательный. И его: «В минном деле, как нигде, вся загвоздка — в щеколде». Потом, когда уже на флоте мне пришлось столкнуться с минами, взрывпакетами и прочими штуками, я понял, как его придирчивость воспитывала в нас элементарную верность жизни.
И прекрасно помню нашего комиссара по фамилии Комиссаров и политработника майора Ломакина. Это были настоящие комиссары, которые теперь знакомы молодежи только по книгам. Большевики, гуманисты, вникатели чужих судеб, отцы матросов, больные и израненные, спокойные и опытные.
Я опять отвлекся, но не корю себя. Если кто-нибудь ждал от этих записок сюжетных рассказов, он давно уже обманулся в своих ожиданиях.
Мой рейс закончился. Следовало подводить итоги. Но дорога еще продолжалась.
Не помню, кто из великих мира сего сказал, что Зевса создал народ, а Фидий всего лишь воплотил Зевса в мраморе.
Я смотрел на спящих вокруг товарищей. И знал, что у одного из них возьму те смешные слова и присказки, которые прямо вываливаются из него. Другой подарит мне свою биографию. А третий не даст врать чересчур, потому что я буду совеститься перед ним. И все то, что я напишу в конце концов, отдали мне те люди, с которыми судьба сводила меня.
До Сейды оставалось полтора часа, и спать не было смысла. И я опять листал книгу Шумовского, выискивая кусочки стихов. По-моему, нельзя читать стихи в большом количестве. Я люблю отдельные, самые хорошие строчки, которые попадаются в виде цитат среди книг прозы. Они укладываются в мозгу и в душе навсегда.
Я читал:
Пускай там дерутся слепые
Цари за кусочки земли,
Мы наших владений границей
Безбрежность морей обвели!
2
От поезда Воркута — Москва уже сильно пахнет цивилизацией. Здесь есть купированные вагоны и ресторан. И в отблесках света за окном уже видны стали березки. Но нам было не до них — мы рухнули в чистые простыни и уснули.
…Аня сидела у меня в ногах и трясла за плечо, когда я наконец проснулся. Шел третий час ночи. И первое, что я подумал, было — не набедокурили ли матросы?
— Вы ко мне хорошо относитесь? — спросила она, убедившись, что я проснулся. Она была вся синяя от ночного света, берет держала в руках, волосы ее растрепались.
— Что надо делать?
— Вставайте и возьмите кого-нибудь из друзей. Мне тут не справиться одной… Такая история! Пожалуйста!
Я поднял Бориса Киселева, и мы оделись. Она ждала в коридоре. Борису я сказал:
— Похоже, пахнет уголовщиной. Нужны понятые.
Он не стал ничего уточнять. Мы закурили и вышли из купе.
— Надо обыскать состав, — сказала Аня.
— Откуда начнем? — спросил Борис так, как будто он с самого детства занимался такими делами, и зевнул в кулак.
— Объясните все-таки, что происходит? — попросил я.
Поезд гремел во тьме между Воркутой и Котласом. Казалось, поезд все время летит под уклон. Так мы куда-то торопились.
— Пропали бригадир и проводница из четвертого вагона.
— Начнем с хвоста, — почему-то решил Борис. Было видно, что он совершенно невыносимо хочет спать.
— А куда мог пропасть бригадир? — спросил я.
— Он скрывается от меня.
— Минуточку! — сказал Борис, нырнул в купе и вынырнул с яблоком. — Подкрепитесь, главный ревизор.
Она машинально взяла яблоко и пошла по вагону. Качаясь на переходных площадках, оглушенный гулом колес, ветром и хлопаньем дверей, я орал в ее маленькое ухо деловые вопросы:
— Почему он скрывается?
— Он… спал с проводницей. Я их накрыла.
— Это… очень большое преступление?
— В служебное время! — воскликнула она. — И это еще не все!
Я пожал плечами. Черт его знает. Если штурман на вахте будет развлекаться с поварихой, судно далеко не уплывет. Только очень уж не женское дело заниматься такими расследованиями.
Мы миновали общий вагон, ныряя под голые сонные пятки, торчащие с полок, и оказались в хвостовом вагоне. Здесь я взял ее за локоть и попросил объяснить суть до конца.
— Он был с одной, а, когда я акт составляла, сказал мне фамилию другой… Я же их всех в лицо знать не могу… И я в акт вписала другую фамилию, невинную… Акт в Москву придет, эту другую вызовут, позорить начнут, а она женщина больная, порядочная… Вот он какой подлец, понимаете? Он прячется; мне в Котласе сходить, а без него акт переписать нельзя… И девушка прячется — та, настоящая… Молоденькая, студентка, кажется, подрабатывает на практике проводницей… А он старый, два раза женатый, трем детям алименты платит… Поймать его надо до остановки, а то сойдет, отстанет и потом скорым в Вологде догонит, а меня уже не будет… — Ей-богу, Аня чуть не плакала.
И мы пошли обратно по вагонам, опрашивая проводниц и проводников, но все говорили, что вообще не видели бригадира. И когда мы проходили наш вагон, то Борис исчез. Детектив не увлек его.
Двери вагона-ресторана на стук не открывали очень долго. Наконец появился парень лет двадцати в белой куртке. Он с большой неохотой и наглой неторопливостью отпер двери, и мы прошли в ресторан.
На сдвинутых стульях, посередине салона, спал пьяный пожилой мужчина.
Качались шторы, позвякивали бутылки в ящиках. Замусоренный пол и грязные скатерти были беспощадно освещены ярким электрическим светом.
Еще один парень в белой куртке и с перебитым носом появился откуда-то. Аня приказала ему открыть кухню.
— Покажите ваш спецдопуск, — ласково попросил парень.
Аня энергично отпихнула кривоносого и открыла дверь в кухню своим ключом. Парни поглядели на меня и отошли в сторону. Я поблагодарил Бога за то, что не надел флотской фуражки. Сейчас они принимали меня за оперуполномоченного. Я курил и делал непроницаемый, зловещий, профессиональный вид. Пока это помогало.
— Ага! — сказала Аня. — Хорошенькое дело! На кухне! Ночью! Посторонние! А потом людей заразой кормят!.. Вылезай!
На кухне за баком-кипятильником пряталась бледная девушка в красном пальто и красной фетровой шапочке с бантиком и брошкой. Она не подняла глаз на нас, стояла, прижавшись к стене спиной, и глядела под ноги.
— Вылезай! — опять приказала Аня. Совсем она была сейчас беспощадная. А мне почему-то было неудобно и стыдно.
— Не выйду, — одними губами сказала девушка и сунула руки в карманы красного пальто.
— Еще как выйдешь, голубушка! — сказала Аня.
И девушка двинулась из кухни вызывающей женской походкой, виляя бедрами и не вынимая рук из карманов.
— Со стариком спала — не стыдно было, а теперь глаза тупишь, — сказала Аня, этими словами как бы стараясь поддержать в себе необходимую беспощадность.
Я открыл дверь из ресторана перед девушкой.
— Я с бригадиром не спала, я только рядом лежала, — медленно и угрюмо и как-то задумчиво сказала обвиняемая, проходя мимо.
— То-то они полчаса купе не открывали, — сказала Аня уже для меня.
— Я одетая была, вы сами видели, — сказала девушка и остановилась в тамбуре, оглянулась в еще не захлопнувшиеся двери ресторана. И я заметил, что парни и она успели обменяться каким-то значительным взглядом. «Не здесь ли и бригадир?» — подумалось мне.
— Я вас попрошу с ней побыть, — сказала Аня. — А я за милиционером схожу. Он на этом перегоне подсесть должен. Теперь еще и с рестораном разбираться придется.
— Хорошо, — сказал я. — Побуду, — мне все-таки хотелось узнать, чем все это кончится.
Аня ушла; я остался с девушкой в красном пальто среди шума вагонного тамбура.
Она опять прислонилась спиной к стене и все не вынимала рук из карманов. И в этой позе было презрение и презрительное терпение. Она молчала непроницаемо и, по-моему, без большого напряжения.
Поезд сбавил ход, мелькнули и пропали за окном двери огоньки стрелок, громыхнули колеса на стыках. И опять увлекающе загудел паровоз, наращивая свой бег в глухой северной ночи.