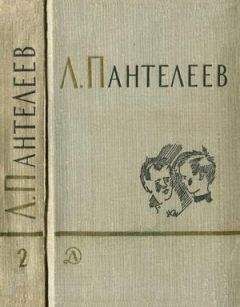Цыган засмеялся.
— Шкида хоть кого изменит.
Потом прикурил погасшую цигарку махры, пустил синее облако за окно в густые уже сумерки…
— Помните? — сказал он и, наклонив голову, вполголоса запел:
Путь наш длинен и суров,
Много предстоит трудов,
Чтобы выйти в люди.
Эти очерки о «халдеях» написаны вскоре после выхода в свет «Республики Шкид». В то время автор мог и не объяснять читателю, что такое «халдей» и с чем его кушают. Человек, который учился в советской школе в первые годы революции, хорошо запомнил эту жалкую, иногда комичную, а иногда и отвратительную фигуру учителя-шарлатана, учителя-проходимца, учителя-неудачника и горемыки… Именно этот тип получил у нас в Шкиде (да, кажется, и не только у нас) стародавнее бурсацкое прозвище халдей.
А нынешнее поколение читателей знает, вероятно, куда больше о мамонтах или о бронтозаврах, чем о халдеях.
В современной советской школе халдеев нет. Есть неважные педагоги, есть очень плохие, но настоящего, чистокровного халдея я не встречал уже очень давно.
Подлинные халдеи сошли со сцены истории лет сорок назад, и, пожалуй, их последняя, их лебединая песня прозвучала как раз в республике Шкид, в той самой школе для беспризорных, которая дала мне путевку в жизнь и воспеть которую мне уже некоторым образом привелось.
Халдеи — совсем особая порода учителей. За несколько лет существования Шкидской республики их перебывало у нас свыше шестидесяти человек. Тут были и церковные певчие, и гувернантки, и зубные врачи, и бывшие офицеры, и бывшие учителя гимназии, и министерские чиновники… Не было среди них только педагогов.
Это люди, которых работать в детский дом гнали голод и безработица. Особенно яркие монстры запомнились мне. О них я и рассказал в этих беглых заметках. Пусть поживут они на страницах этой книги, как живет в музее чучело мамонта или скелет ихтиозавра.
Ребята нашего класса славились многими качествами. Были среди нас великие бузотеры, были певцы, балалаечники и плясуны. Многие хорошо и даже замечательно играли в шахматы, многие увлекались математикой и техникой, но больше всего в нашем четвертом отделении было поэтов.
Уж не знаю почему и отчего, но «писателем» становился каждый, кто попадал в наш класс. Одни писали стихи, другие — рассказы, а некоторые сочиняли романы побольше, чем «Война и мир» или «Три мушкетера».
Писали все: и те, кто увлекался математикой, и те, кто играл в шахматы, и плясуны, и балалаечники, и самые тихонькие гогочки, и самые отчаянные бузовики и головорезы.
Мы много читали, любили хорошую книгу и русский язык.
Но вот с преподавателями русского языка нам не везло.
Целую зиму, весну и лето «родного языка» совершенно не было в расписании наших уроков. Викниксор, наш заведующий, ежедневно почти ездил в отдел народного образования, высматривал там разных людей и людишек и все не мог отыскать подходящего. Печальный, он возвращался домой, в школу, и сообщал нам, что «сегодня еще нет, но завтра, быть может, и будет». Обещали, дескать, прислать хорошего преподавателя.
Это «завтра» наступило лишь осенью, в августе месяце.
Однажды открылась классная дверь и вошла огромного роста женщина в старомодном шелковом платье с маленькими эмалевыми часиками на груди. Лицо у нее было широкое, красное, нос толстый, а прическа какая-то необыкновенная, вроде башни.
— Здравствуйте, дети! — сказала она басом.
— Здравствуйте, — ответили мы хором и чуть не расхохотались, потому что в Шкиде никто никогда не называл нас «дети».
— Я буду преподавать у вас русский язык, — сказала она.
— Замечательно, — ответили мы.
— Сядьте, — сказала женщина.
Мы сели. Халдейка походила по классу и раскрыла какую-то книгу.
— Читайте по очереди.
Она положила раскрытую книгу на парту перед Воробьем и сказала:
— Читай ты.
Воробей выразительно прочел:
— «Стрекоза и Муравей», басня Крылова.
— Фу ты! — воскликнул Японец. Мы тоже зафыркали и недоумевающе переглянулись. Мы ожидали, что нам покажут что-нибудь более интересное. «Стрекозу и Муравья» мы зубрили наизусть еще три-четыре года назад.
Воробей стал читать:
Попрыгунья-стрекоза
Лето красное пропела,
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
— Дальше, — сказала преподавательница и передвинула книгу.
Теперь запищал Мамочка:
Помертвело чисто поле,
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
— Дальше, — сказала халдейка.
Хрестоматия переходила с парты на парту. Мы читали один за другим нравоучительную историю стрекозы, которая прыгала, прыгала и допрыгалась.
Мы читали покорно и выразительно; лишь Японец, когда очередь дошла до него, заартачился.
— Да что это?! — воскликнул он. — Что мы — маленькие, приготовишки какие-нибудь?
— А что? — покраснела халдейка. — Вы это знаете?
Она посопела своим толстым носом и перелистнула страницу.
— Читайте.
Растворил я окно, стало грустно невмочь,
Опустился пред ним на колени…
— Читать мы умеем, — сказал Японец. — И даже писать умеем. Вы нас, пожалуйста, с литературой познакомьте.
— «Растворил я окно» — тоже литература, — сказала халдейка.
— Плохая, — сказал Японец.
— Ты меня не учи, я не маленькая, — сказала великанша, вспыхнув как девочка.
— Вы нам о новейших течениях в литературе расскажите! — воскликнул Японец. — Вот что!
— Не смей выражаться! — закричала халдейка.
— Как «выражаться»? — испугался Японец.
— Ты выразился, — ответила халдейка.
— Ребята! — воскликнул Японец. — Я выразился?
— Определенно нет!
— Нет! — закричали мы.
— Не выразился!..
— Выразился, выразился! — в гневе закричала страшная женщина. — Что это такое значит «течения»? Объясни, пожалуйста.
— Фу ты! — сказал Японец.
— Читайте, — сказала халдейка.
Купец забасил:
И в лицо мне дохнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.
— Фу ты, — повторил Японец. — Ну расскажите нам про Маяковского, Федина, Блока…
— Не говори гадостей! — закричала мегера.
— Гадостей?!
— Да, да, гадостей. Что значит «блок»? Я не обязана знать вашего дурацкого воровского языка.
Японец встал, медленно подошел к двери и, отворив ее, прокричал:
— Вон!
Халдейка выпучила глаза. Мы нежно, любовно смотрели на Японца. Это было так на него похоже. Он весь горел в своем антихалдейском гневе.
— Вон! — закричал Японец. — Вам место в бане, а не в советской школе. Вы — банщица, а не педагог.
Великанша встала и величественно пошла к дверям. В дверях она обернулась и почти без злобы, надменно проговорила:
— Увидим, кто из нас банщица.
Не увидели. Исчезла. Растворилась, как дым от фугасной бомбы.
И опять мы остались без русского языка. И снова мы одолевали Викниксора мольбами найти нам преподавателя.
Викниксор ворчал.
— Найдешь вам, — говорил он. — Ведь вы лучшего преподавателя, вы академика, мирового ученого в могилу вгоните.
— Не вгоним, — обещали мы. — Честное слово, не вгоним.
Мы обещали, что будем сидеть на уроках русского языка, как самые благонравные институтки, мы обещали никогда не бузить, не ругаться и не смеяться над новым преподавателем, даже если он окажется каким-нибудь необыкновенно смешным, даже если у него будет два носа, или хвост, или овечьи рога.
Ради русского языка и русской литературы мы готовы были идти на любые жертвы.
Викниксор поворчал, поворчал, но смилостивился, поискал и нашел нам преподавателя.
Это был очень хороший, знающий свое дело педагог. Степенный, седенький, в золотых очках, он и правда был похож на академика. Так — Академиком — мы его и прозвали. Он пробыл у нас полтора или два месяца и за это короткое время успел прочитать курс русской литературы восемнадцатого, девятнадцатого и начала двадцатого века. Мы радовались этой удачной находке, мы стойко держали слово, данное Викниксору, и вели себя на уроках Академика так, что нам и в самом деле могли позавидовать самые скромные институтки.
И вдруг случилось большое несчастье.
Такое несчастье могло случиться только в нашей стране, в Советском Союзе.