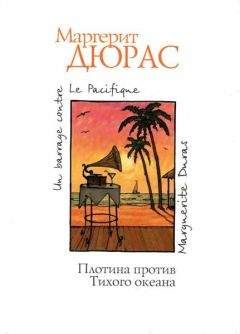Он уехал отсюда, несколько приободрившись, но едва доехал до штаба, как понял, что надо уже спасать своего несчастливого первенца — первый агрегат. Варламов требовал остановить машину. Острогорцев медлил, потому что это означало бы чуть ли не полное поражение. Но вода в котловане все прибывала, как будто из самой земли набиралась, и Варламов уже чуть ли не со слезами на глазах просил: «Остановите машину, если вы хотите, чтобы она когда-нибудь заработала вновь!»
Окаменевшее лицо Острогорцева не выражало ничего, кроме непреклонности.
Наконец Варламов, позабыв всякую субординацию, направился к пульту управления.
— Я сейчас сам вырублю машину! — погрозил начальнику стройки.
Острогорцев кивнул: вырубай!
И ушел в штаб, отдав по пути единственное распоряжение:
— Постоянно доставлять сюда горячий чай.
Он ушел в свою сверкавшую под жарким солнцем, неуместно праздничную «стекляшку» и засел в ней на несколько часов.
Он понимал, что и дальше должен принимать решения, командовать, действовать, но теперь, после остановки машины, почувствовал, как сократились его возможности. Он еще куда-то стремился, спешил, звонил, куда-то ехал и возвращался обратно… и невольно оказывался все у того же первенца. Последнее, что он здесь видел, это как парни из ГЭМа и ливенковцы спасали от воды дорогую электронику. Они выносили ящики и приборы, прижимая к груди, — как детей, спасаемых от наводнения. Не у всех были гидрокостюмы, и у кого-то зубы стучали после ледяной купели. Но ничего, не жаловались. И не просили подменить. Снова шли в воду. «Там еще остался ящичек…» Пытались даже шутить…
— Простят ли они нас? — вдруг услышал Острогорцев за своим плечом голос парторга Акима Болгарина.
— Не знаю, еще не думал, — ответил он, повернувшись к парторгу. — Я думаю о другом: сумеем ли отработать стране все эти потери?
— Люди нас спросят, — продолжал парторг о своем, — зачем было все напряжение полутора лет, битва за каждый блок, если все так закончилось?
Острогорцев не ответил. Только скулы чуть ясней обозначились на его похудевшем лице.
— Ты что, меня во всем винишь? — спросил через некоторое время.
— Слишком удобно было бы самому, — ответил Болгарин.
— А все-таки: что ты обо мне сейчас думаешь? — непременно захотелось узнать Острогорцеву.
— Я слишком привык смотреть на тебя как на начальника, — ответил парторг. — Может быть, надо было чаще вспоминать, что ты, как и все другие, — член партии.
— Думаешь, от этого могло что-нибудь измениться?
— Не знаю, Борис Игнатьевич. Выводы у каждого из нас — впереди. А пока надо расхлебывать эту холодную мутную похлебку.
Он смотрел на глинистую пенистую воду, которая ходила в затопленном фрагменте машинного зала большими кругами…
Появляясь в штабе, Острогорцев садился не на свое всегдашнее председательское место, а за длинный заседательский стол, как рядовой участник непрекращавшейся штабной оперативки. Садился всегда спиной к той стеклянной стенке, что выходила на котлован, — не хотел видеть бушующего в отдалении водопада. На всей огромной, на всей родной стройке ему теперь не на что было взглянуть, нечем полюбоваться, чтобы поправить настроение.
Иногда он уединялся в своем кабинетике. Отсюда были хорошо видны бетонный завод на противоположном берегу (он действовал!), мост напротив завода, далекие домики поселка. Тут можно бы ненадолго забыться, отдохнуть, снять напряжение… если бы не лезла в глаза побелевшая от злости Река. Да если бы ещё не звонили так часто телефоны, здесь установленные. Их было явно многовато для такого случая. Звонили кому надо и кому не надо, и всем обязательно надо было знать, что здесь происходит в данный момент, как все это могло случиться и какие принимаются меры. И даже такое спрашивали: кто виноват?
— Ну я виноват! — сердито отвечал на это Острогорцев. — Какие будут еще вопросы?
Донимали еще и журналисты, понаехавшие со всех сторон (и как только пронюхали, откуда узнали?).
Их Острогорцев не принимал, а своим помощникам и руководителям работ посоветовал тоном приказа:
— На разговоры с этой публикой не отвлекаться, нет у нас на это времени и сил. Фотографировать им тут нечего и незачем. Пусть приезжают потом. Намекните, что пребывание на стройке для них сейчас небезопасно, так что пусть не лазают, где не надо.
Только Москве он отвечал обстоятельно и давал в общем объективную информацию, разве что чуть-чуть ослабляя драматизм положения. Он делал это непроизвольно, не из боязни (бояться было уже нечего, страшнее того, что состоялось, уже не будет), а в силу сложившейся традиции докладывать наверх, не сгущая красок. Так уж издавна повелось — не он первый, не он последний. И в этом, может, была даже некоторая практическая польза: нарисовав не слишком страшную, терпимую картину бедствия, ты и сам, возможно, поверишь, что все обстоит не так уж мрачно, и приободришься, приосанишься для новой борьбы.
После доклада в Москву и в крайком Острогорцев говорил дежурному, что идет на объект. Так и должен был отвечать дежурный инженер на новые телефонные звонки. Сам же он чаще всего оставался в том же зале заседаний, спиной к окнам. Разговоры велись тут немногословные, чаще всего по такой схеме: вопрос — ответ… доклад — решение — указание… вопрос — ответ…
Но стоял перед Острогорцевым и перед его штабом, витал в воздухе и пока что не получивший полного ответа самый сложный вопрос: как же все-таки могло такое случиться? Ведь ждали и готовились, и даже в газетах писали о том, что встретим паводок во всеоружии, сумеем противопоставить стихии свою организованность и инженерную мысль.
Снова и снова: кто же тут главный виновник? Человек или стихия? Только человек или только стихия? Или «паводок мелких неурядиц», как говорил один ветеран?
Как хорошо бы — только стихия, ее непредсказуемость и неуправляемость. Тогда все сразу бы заняло свои понятные места: уникальная Река преподнесла людям уникальный паводок. На целую неделю раньше предсказанных сроков растопило солнце окрестные ледники и произвело этот досрочный пуск большой воды.
Все просто и ясно, и не требуется никаких добавлений.
Но тут «возникал» Варламов и все разрушал своей элементарной первобытной логикой:
— Самое удобное — сослаться на природу, на сложные условия. В сельском хозяйстве они мешают собирать урожай, на стройке — строить. Но, товарищи дорогие, всегда были и будут дожди, всегда были и будут паводки, однако и во время дождей нельзя бросать в поле урожай, и во время паводков надо продолжать строить. Нельзя жить на авось, нельзя жить на пределе! — вот где секрет. Мы все время шли на пределе, в обрез или с отставанием, а требовалось, оказывается, на целую неделю опережать свой собственный график. Вы затопили мой агрегат, которому люди… столько отдали… который был так нужен… — Голос Варламова уже не гремел, как бывало на летучках, а делал опасные хрипловатые сбои.
Острогорцев, к удивлению, молчал. Раньше не смолчал бы, а тут молчал. Ему некого было обвинять, не на кого жаловаться. И надо было слушать, чтобы найти истину.
Соглашайся или не соглашайся с Варламовым в целом, но правдою, правдою было то, что нельзя так работать и жить — на пределе. Нужно всегда иметь запас, который дает добрую уверенность в завтрашнем дне. Он, бывает, накапливается помаленьку, но держится долго… С другой стороны, где его взять, этот запас, когда идешь и живешь на пределе возможного?
Вряд ли Острогорцев мог ответить на это в один присест и в одиночку. Особенно сегодня, когда в первую очередь — прав парторг! — надо без передышки расхлебывать эту холодную похлебку.
Когда в штабе появился Густов-старший, Острогорцев, подобно Юре, сперва не поверил своим глазам. Шевельнул бровями, пригляделся повнимательнее. Вроде как для проверки спросил:
— Ты… вернулся?
— Да вот услышал и не усидел.
— Ну присядь с дороги.
Оценок, сочувствий и всяких вообще высказываний о происходящем на стройке он не ждал и не жаждал. Он и так много чего видел на лицах и в глазах членов штаба, слышал по телефонам. Вполне достаточно для одного человека.
— Если понадобится старый сапер на какую-нибудь переправу… — заговорил Николай Васильевич, немного посидев и помолчав.
— Может понадобиться, — отозвался Острогорцев. — Ты где успел побывать?
— Да в общем-то везде, где можно сейчас.
— Подсядь поближе.
С того берега в штаб Николай Васильевич шел дальней, единственной теперь дорогой — мимо бетонного завода, затем через мост, и дальше — опять к плотине, только уже по левому, станционному и штабному берегу. Пока не миновал бетонный завод, все время приходилось держаться обочины и пропускать «белазы», с невольным уважением взирая на водителей, высоко вознесенных над дорогой в своих просторных кабинах. Эти ребята всегда производят впечатление, когда на них смотришь с дороги, снизу. Когда видишь одного за другим. Этакие боги дорог. Повелители скоростей…