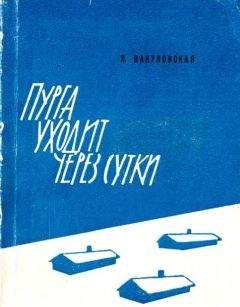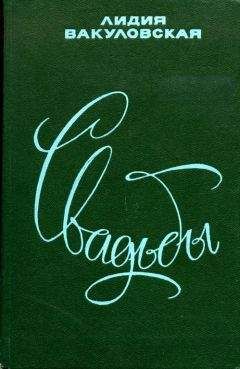Сколько раз, находясь неподалеку от воздушной границы с Аляской, его окликали радисты американских аэродромов. И не просто окликали. Он мог наперед сказать, что последует за этим любезным приветствием.
— Ол райт, Ушак-паша! — повторил американец, полагая, что его не слышат.
— Ну, ну, — иронически произнес Ушаров, — чем ты меня сегодня порадуешь?
— Лети к нам! — последовало предложение. — Такой северный асс, как Ушак-паша, всегда найдет себе подходящее дело в Америке. Твои мальчики могут быть спокойны…
— Сколько ты заколотил на нашем прошлом разговоре? — перебил его по-английски Ушаров.
— Не будь дураком! — вместо ответа продолжал американец…
— А пошел ты… — уже по-русски выругался Ушаров.
Он резким движением скинул с головы наушники, передал их Мите.
— Опять Америка шикарную жизнь обещала? — спросил, не поворачиваясь, Саша Рокотов.
— А что им остается делать? — пробасил Ушаров, — Циркачи!
Молоденький бортрадист Митя Ветров (это его первый рейс после училища) вытаращил на Ушарова глаза: он только сейчас понял, с кем разговаривал его командир.
— Америка?!
Ушаров хлопнул его по плечу, усаживая тем самым в кресло:
— Полетаешь, парень, сам научишься с ними дипломатию поддерживать. А пока лови Крестовый.
Пожалуй, только в эту минуту Ушаров заметил, что хирург спит. Блинов спал, сидя на чемоданчике, где хранился его инструмент, привалясь спиной к дверце кабины. Он спал с открытым ртом, упершись ногами в кресло Саши Рокотова, а головой — в железную дверцу. И, как иногда бывает у спящих людей, выражение лица у Блинова было недовольное и предельно тупое. Вообще Ушаров не любил отрядного хирурга, известного своей нагловатой циничностью, а сейчас он вызвал у него чувство гадливости. Ушаров окликнул его и, дождавшись, когда тот откроет глаза, сказал:
— Северный закрылся, мы идем на Крестовый.
— Закрылся? — равнодушно зевнул хирург.
— Подвиньтесь, Блинов, я пройду, — угрюмо потребовал Ушаров, подступая к дверце, и зачем-то ткнул острым носком туфли в чемоданчик, на котором сидел тучный, не по годам рыхлый Блинов.
Блинов отодвинулся от дверцы, и Ушаров вышел из кабины.
Похоже, что пассажирка собиралась выброситься из самолета: стоит у выхода, в руках держит сумку. Увидев Ушарова, она улыбнулась (и что за способность у людей ни с того ни с сего улыбаться?).
— Опаздываем? — спросила она, показав на часики, — Уже пять минут первого.
— Вам не повезло, — сказал Ушаров. — Северный нас не принял.
— Почему?
— Там пурга.
— Так что же, что пурга?
— В пургу, как известно, аэродромы закрываются. Так что встреча с родственниками пока откладывается.
— У меня не родственники, муж там…
— Тем печальнее, — ответил он.
Неожиданно женщина начала часто моргать, в глазах появились слезы.
«Этого еще не хватало», — раздраженно подумал Ушаров. Он приблизился к ней.
— Во-первых, отойдите от двери…
Женщина послушно прошла в нос машины.
— …во-вторых, сядьте…
Она послушно села.
— …а в-третьих, сидите и ждите, когда вам скажут выходить…
…Самолет шел на высоте трех тысяч метров. Воздух был похож на морскую воду, прильнувшую к широким окнам кабины. Казалось, протяни руку — и черпай ее пригоршнями из моря. Сверху в море таращились крупные звезды. Далеко внизу лежало выстланное облаками дно.
Белые, дымчатые, — черные, как — отгоревший шлак, облака бежали навстречу друг другу, сталкивались, разбивались друг о друга, сходились в кучу, тяжело ворочались и снова бежали куда-то. Облачное дно было до головокружения шатким, как палуба гигантского корабля в шторм.
Самолет рассекал винтами, разрубал крыльями сердцевину этого — моря, раскинувшегося между облаками и звездами. И плыл, плыл один в огромном пространстве, полном покоя и тишины, нарушаемой только рокотом собственных моторов.
А где-то там, за облачным барьером, за этим живым дном воздушного моря билась, неистовствовала пурга.
Саша Рокотов обернулся к Ушарову, стоявшему в раздумье за спинкой пилотского кресла.
— Поведешь?
Ушаров молча кивнул. Рокотов уступил ему место, Ушаров сел в кресло, положил на штурвал руки. Была отличная видимость. Вот они, звезды и созвездия: Полярная, Орион, Дельфин. Вот они, облака: крутые, тяжелые, накрепко отгородившие землю. Вот он, воздух, густо-голубой, бьется о стекло…
— Хорошо!..
— Хорошо, да?
В общем-то, да. А в частности? Невезучий он в частности человек. Так и не придется ему в день своего сорокалетия встретиться с Юлей…
Пурга… Тот, кто не встречался с нею в пути, тот, кто не видел ее своими глазами, кто не ощутил ее своим телом, кто не слышал ее тревожного, пронзительного завывания, кто не чувствовал на лице ее игольчатых уколов, тот, чьих губ ни разу не коснулась ее шершавая, твердая, как наждак, пыль, тот, чья грудь ни разу не обледенела от ее холодного дыхания, — тот никогда не представит себе, что это такое.
Пурга…
Ее надо видеть.
Она рвет метровый лед на море, поднимает на воздух могучие льдины, сталкивает их лбами, громоздит друг на друга.
Пурга…
Она срезает с сопок многопудовые козырьки, гонит к подножью снежные лавины.
Пурга…
Она разбивает оленьи стада, срывает яранги, переворачивает на трассе грузовики.
Пурга…
Ее надо слышать.
Она идет с Ледовитого океана. Тысячи тонн снега несет бешеный ветер. Тысячи тонн снега, переворачиваясь в воздухе, обрушиваются с океана на тундру. Огромный простор вечных льдов, земли и неба кипят, охваченные пургой.
Северный утонул в пурге. Она бьется в окна, в двери, в стены домов. Люди не выходят на стук. Все двери взяты на крепкие засовы.
Пурга мечется по улице, раскачивает провода, трясет телеграфные столбы. «У-у-у-у, у-у-у-у», — захлебывается она в стоне.
И свирепеет, свирепеет…
Пурга ломится в дом…
Девять тысяч километров до Москвы. Три тысячи — до Магадана… Ни на одной порядочной карте не нашлось точки для Северного. Тем более для домика заведующего базой. И никто третий в огромном мире не знает, что делают в этом домике двое людей. Никто этого не знает, кроме них самих…
— Ой, как вкусно, — говорит Ася, откусив уголок румяного, еще горячего пирожка. — Честное слово, очень вкусно!
Пироги немного подгорели, но в общем получились ничего. Особенно, если их жевать, запивая чаем.
— Видите, а вы хотели от меня сбежать. Лишились бы такой трапезы, — отвечает Тюриков.
Они пьют на кухне чай с пирогами. Странная температура стоит на кухне. У плиты — жара, у дверей — холод. В одном углу от жары потрескалась штукатурка на потолке, другой угол затянут серебряной изморозью. Держишь руки над столом — рукам тепло, поднесешь к окну — замерзают. Под столом мерзнут ноги, хотя они в валенках. А лицу жарко. Несмотря на тройные рамы, занавески на окне ходят ходуном. А в общем неплохо, если учесть, что на дворе такая пуржища.
Ася чувствует себя с Тюриковым непринужденно. И десятый, нет, сотый раз она думает о том, как правильно сделала, что осталась у него. Окажись она сейчас вместе с Бабочкиной, та непременно стала бы пичкать ее всяческими прописными истинами.
— Вот так и живем, — жуя пирог, говорит Лука Семенович. — Пурга, мороз, ночь. А дело не ждет. Верите, забыл, когда книгу в руках держал. Все некогда.
Ася задерживает на нем взгляд. Она не сомневается, ему и вправду некогда. Тюриков здесь год, а сделал столько, сколько за пять лет не сделали его предшественники.
— И ведь что обидно, — тянется он за новым пирогом. — Никто не оценит. Вот сдвинули мы с мертвой точки торговлю в тундре. Думаете, спасибо от колхоза получили? Как бы не так, у Опотче дождешься благодарности! Или — утеплили склады, пять своих упряжек завели. Думаете, в райцентре заметили, похвалили? Написали хоть строчку?
И хотя он вовсе не жалуется, а говорит просто так, даже с веселой лукавинкой в глазах, Асе хочется сделать для него что-то очень хорошее.
— Я обязательно напишу о вашей базе, — говорит она. — И о вас.
Ася не делала секрета из своей поездки. Она еще раньше рассказала Тюрикову о письме, полученном редакцией. Сейчас он вспомнил о нем.
— Ну, скажите, как не злиться? Пишут всякую ерунду.
— Стоит обращать внимание! — говорит Ася. — Еще хватает на свете типов, для которых нет большей радости, как оклеветать другого. И столько еще этих типов, просто не поймешь, откуда они берутся. Будь моя воля, — Ася сжимает кулачок, стучит им по столу, — я бы их всех вот так!
Тюриков смотрит на Асю и весело смеется:
— Я знал, что вы приедете, но не знал, что вы такая, — неожиданно произносит он.
— Какая? — механически спрашивает Ася.