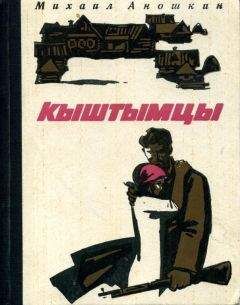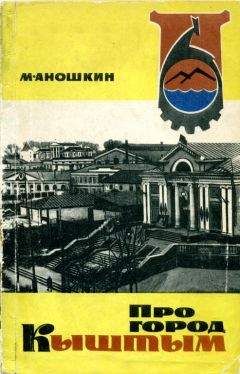— Бабы вы и есть бабы. Ум у вас бабий. Дальше носа ничего не видите. А заглянули бы дальше, так спасибо нам сказали бы.
— Это за что же? — вскинулась Тоня, поставив в угол ухват. Подошла к мужу, уткнула руки в боки и насмешливо уставилась на него. Под ситцевым фартуком заметно круглился живот. Глаша даже про себя ахнула — да ведь Тонька опять тяжелая ходит! В такое-то время! Ох, отпетая голова! Не торопилась бы с третьим-то. Нянчилась бы пока с двумя. Девочку бы им, а? И не рыжую, а русокудрую, как Тоня.
— Отныне власть — мы! — сказал Михаил Иванович. — Рабочий народ. А они, — он кивнул на сыновей, — будут в новой жизни жить. И мы с тобой прихватим новой жизни. Малость, но прихватим.
— Твои бы слова да богу в уши. А то ведь поубивают вас — ни старой, ни новой жизни не увидите.
— Руки коротки!
— Храбрый! Ты слыхала, Глань, Николая Горелова убили!
— Не слыхала.
— Из Катеринбурга везут, гроб-то. Похороны будут.
— Господи, за что же его?
— Дочка какого-то богача из револьвера. Намедни в Швейкина стреляли. Моему тоже грозятся рыжую голову напрочь оторвать. А они хоть бы хны! Ты хоть бы детей пожалел, рыжий черт!
— Мать, слышь, пишет на фронт сыну: мол, побереги себя. Пуля — она дура. Сын ей в ответ: а чо, грит, пуля? В рот залетит — проглочу. В лоб ударится — отскочит: он у меня медный.
— Не болтай, — поморщилась Тоня.
— Я и не болтаю. Контру угробим, это как пить дать. Постреляем, понятно, немного, не без этого. И давай не будем спорить при несмышленых детях. Они ишь рты-то поразевали. Закройте рты-то, а то воробей залетит!
— Не залетит, — степенно ответил Назарка. — Тять, а тять, возьми нас с собой контру бить!
— Во, видишь! — воскликнул Михаил Иванович, обращаясь к жене. — А ты загрустила!
— Тебя не переговоришь, — Тоня отрезала полкаравая. Глаша завернула его в белую тряпицу, прихваченную из дома. Поблагодарила хозяев и уже открыла дверь, когда Тоня предложила:
— Глань, сходим на станцию-то, поглядим, когда Горелова привезут?
— Право, не знаю…
— Сходите, сходите, — поддержал Михаил Иванович. — Там половина Кыштыма соберется.
— И мы пойдем! — закричали Назарка и Васятка.
Но мать осадила их:
— Без вас обойдемся!
Глаша торопилась от Мыларщиковых, и уже не было у нее легкого настроения. Горелова убили. В Швейкина стреляли. Михаил вот по ночам где-то пропадает. Случись что, куда же денется Тонька с двоими, а потом и с третьим? Матерь божия, что же это творится на белом свете? Убивают и убивают друг друга, конца края не видно. Михаил еще Ваню сманивает. Нет уж!
Если бы ведала Глаша, какая тоска сдавила горло Ивана, когда он увидел Пеганку. Вспомнил, как появился у них Пеганка. Отец тогда в лесу был с Буланкой. Она там и ожеребилась. Принесла такого забавного легонького попрыгунчика. Увидел Иван рядом с Буланкой маленькую коняшку и обрадовался. Тот ткнулся в Иванову грудь, бестолковый и доверчивый. Вырос Пеганка. Запряженный в кошеву, он привез Ивана и Глашу из церкви после венчания. На нем возили крестить Дашеньку… А в летние комариные ночи на покосе Иван, бывало, повесит на Пеганку ботало, стреножит и пустит пастись. Сам спит вполуха. Нет-нет да поднимет голову — прислушается. Ботало потихонечку побрякивает, значит, все в порядке. Ни худой человек, ни лесной зверь не тронул Пеганку…
Лука сует Серикову узду — запрягай. Пеганка хрупает овес, не узнает прежнего хозяина. А тот запряг конягу в дровни, вывел на улицу, к своим воротам. Свою кровную взаймы взял за сеном да за дровами съездить!
Тут и Глаша подбежала с хлебом. Лука хлопнул калиткой, ушел к себе. Глаша мужу что-то говорила, а он про себя спорил с Лукой. Перезанять бы у кого-нибудь два мешка муки да вернуть Батятину. На тебе свое, отдай мне мое. Только где возьмешь? У кого и есть не даст — на черный день бережет. Он не за горами, этот черный день. Уже стучится во многие двери. Так что езжай, Иван, за сеном и не трави понапрасну душу свою, все равно не поможешь.
— Да ладно ли с тобой, Вань? Чо ты такой смурной? Может, не поедешь сегодня?
— Пошто же?
— Горелова хоронить будут.
— Кого, кого? — вскинул брови Иван.
— Горелова. Михаил Иванович сказывал.
— Хлеб-то принесла?
Она протянула ему хлеб, завернутый в белую тряпицу, с еще не потухшей надеждой спросила:
— Может, завтра, а?
— Да ну тебя! Чего откладывать-то?
Поверх шинели напялил тулуп, который одолжил все тот же Лука, грузно завалился в сани. Глаше стало грустно-грустно, будто опять провожала надолго. Прижала руки к груди, слезы из глаз потекли к подбородку, она их слизнула языком.
— Дуреха, чего ты раскисла? — улыбнулся Иван. — До вечера! Да картошки в мундире поболе навари.
На станцию Тоня и Глаша явились к приходу поезда. На перроне, у здания станции, возле медных труб и барабана, которые лежали на земле, топтались музыканты. За ними грудились красногвардейцы, одетые кто во что горазд — шинели, тужурки, пальто. У каждого за спиной винтовка без штыка, либо бердана-дробовик. Около путей стояло несколько человек, на них-то и обратила внимание Глаша. Молодая девушка в черной шали с печальным лицом поддерживала под локоть старушку, тоже в черной шали. Старушка то и дело подносила к глазам платок.
— Мать, поди? — спросила Глаша.
— Мать, — подтвердила Тоня. — И дочь. Сестра Горелова.
— А рядом кто, в полушубке-то?
— Баланцов.
— Самый Баланцов и есть? Я думала богатырь, а он невидный такой. А который Швейкин?
— Вишь в черном пальто с каракулевым воротником, в шапке-лодочке?
— Представительный. И на лицо баской. Жена, поди, тоже писаная красавица.
— Холостой.
— Ну уж и холостой? — не поверила Глаша.
— Молодость-то на каторге сгубил. А Горелов женатый был, дочурка у него осталась. А рядом с ним, который горбоносый, приметила? Рядом со Швейкиным-то?
— Приметила.
— Это Дукат.
Глаша покосилась на Тоню — губы у нее пухлые, а подбородок упрямый. И брови вразлет. Все-то она знает. Вроде с детишками возится день-деньской — когда только успевает?
Со стороны Егозы плыли черные тучи, падал снежок. Пробирала зябкая дрожь. От дежурного по станции вышел Сашка Рожков, давнишний знакомый Сериковых. Крестный отец Дашеньки. Серьезный, озабоченный. Вскинул глаза, приметил Глашу.
— А, кума! — сказал он, обрадованный встречей. — Сказывают, Иван вернулся!
— Слава богу!
— Ходите в гости!
Рожков заторопился к красногвардейцам. Пальто подпоясано ремнем, а на ремне револьвер в кобуре. Следом за ним из той же комнаты вышел Михаил Мыларщиков, мимоходом взглянул на жену, не выражая ни малейшего желания подойти, будто она ему чужая. Направился туда, где стоял Швейкин. Тоже при ремне и револьвере. Какие-то они не похожие на себя сегодня, суровые. Наконец выглянул дежурный по станции в фуражке с красным верхом, задрал голову, осматривая тяжелые серые тучи, и нехотя дернул веревку. Колокол испуганно вздрогнул и издал дребезжащий звук, от которого у Глаши засосало под ложечкой.
И все пришли в движение. Музыканты расхватали инструменты и выстроились в положенном порядке. Сашка Рожков зычно подал команду строиться, и красногвардейцы поспешно образовали две шеренги. Сашка вывел их к путям и развернул вдоль перрона. Баланцов подхватил под руки мать Горелова. С другой стороны поддерживала ее дочь. Взгляды всех устремились налево, в сторону Егозы. Оттуда из-за поворота выплыл черный паровоз, таща за собой состав пассажирских вагонов. Глаша ухватилась за Тонину руку. Наконец поезд остановился. Из вагона выскочили двое в кожаных тужурках и подошли к Швейкину. Створки вагонной двери раскрылись, и Борис Евгеньевич медленно снял шапку-лодочку. Поснимали головные уборы и остальные мужчины, кроме музыкантов и красногвардейцев. Дирижер взмахнул палочкой, и полились скорбные звуки похоронного марша. Они заполняли серый февральский день. Шестеро красногвардейцев приблизились к вагону, чтобы принять гроб. Мать Горелова обессиленно повисла на руках Баланцова и дочери. Ее еще подхватил Дукат. В вагоне что-то замешкались. Но вот красный гроб поплыл над людьми, потом его бережно опустили на скрещенные винтовки. Красногвардейцы уже нагнулись, подхватывая гроб, но какая-то женщина крикнула:
— Ироды! Крышку-то снимите, не заразный же!
Красногвардейцы быстро сняли крышку, и Глаша одним глазом увидела того, кто лежал в гробу. Русые волосы шевелил ветер, снежинки падали на высокий восковой лоб, на лицо с ввалившимися щеками и не таяли. Над верхней губой рыжели усики. Перекрывая стонущую медь оркестра, над толпой забился безысходный крик:
— Коленька-а-а! Родненьки-и-и-й! И чо они с тобой сделали!
Глаша, не выдержав, торопливо выбралась из толпы и побежала прочь, глотая слезы. Тоня за нею. А музыка плакала, билась о низкие стены вокзала, о вагоны, рвалась к серым снеговым тучам, размягчая человеческие души.