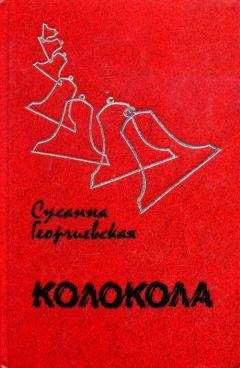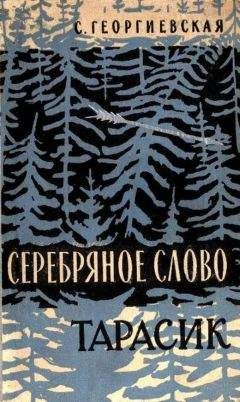— Могу тебе предложить такси. Не хочешь?.. А может, тебе желательно у меня на закорках? Ну так давай!.. Не стесняйся!.. Садись. Валяй!
— Успокойся, Сева... Веди себя как мужчина.
Было видно, что он разъярен.
...Но и то было видно, что парень он славный, «первого класса» — прямой, бесхитростный... И что бриться начал недавно. Остатки недобритого пушка проступали на щеках, на ямке у подбородка (другая, твердая часть подбородка была еще совершенно девственной: не тронутая бородой).
— Пошли, — зевнув, сказала Кира. — Сева, этот зевок к тебе не относится. Я сегодня заснула в шестом часу, читала Цветаеву. Кого ты любишь больше всего? Я имею в виду из наших, из современных?
— Знаешь ли, недосуг читать... Институт. Стенгазета. Работа.
— А летом? Ах, да... Я забыла: у студентов летняя практика...
— И вдобавок у нас садовый участок. Приходится помогать отцу.
Он сиял. Каждое его слово сопровождала улыбка. Казалось бы, нет на земле ничего веселей, как помогать отцу сажать и полоть петрушку.
Зажегся зеленый свет.
Уверенно и спокойно он взял ее под руку, не раздумывая, инстинктивным, быстрым движением...
— Ну а спорт? — лениво спросила она.
— На лыжах хожу, конечно. Но как-то, знаешь ли, несерьезно... Разряда нет. Не стремлюсь. Нет времени для разряда.
— Сева!.. Слабо сорвать мне вот эту ветку!
— Нас оштрафуют. И прямиком — в милицию. Под конвоем.
— По-одумаешь — невидаль. У меня уж есть привод.
— Врешь.
— Не вру. Спроси у отца.
— Ну и фруктец же ты, Кирочек!
— Сева!.. Ты любишь фрукты? Я люблю. Фейхоа. Ты ел?
— Не те ли фейхоа, Кирок, что растут у вас на дворовой липе?
— Нет... Настоящие. Южноамериканские. Я бы хотела в Африку... А ты?
Задумавшись, она наклонилась к его лицу, он услышал ее дыхание.
— Вся моя цель — это Африка!
(«Это она нечаянно или нарочно?.. С ума от нее сойти!..»)
— Подожди, Кира...
Она продолжала шагать опустив голову, подбрасывая носком искривленной туфли камень, валявшийся на дорожке сквера. Он нагнал ее. В руках у него была ветка.
— На. Возьми.
— Не хочу.
— Отчего?
— Сама не знаю... Должно быть, слишком долго пришлось просить.
Наивное лицо его, не занятое тем, чтобы управлять собою, выразило растерянность. Рука играла веткой. Пальцы не знали, что делать с ней.
Он кинул ветку на мостовую.
И веточку, с чуть распустившимися весенними почками, тотчас затоптали люди. И пришла ее смерть. Но из четырех желтоватых почек заплакала только одна. У нее был скверный характер. К тому же, как самая молодая, она еще не знала слова «смирение». Почки вообще не знают слов...
— Весна! — удивившись, сказала Кира. И вскинула голову. — Вчера еще не было... А сегодня — весна.
Да. Конечно. Весна. Эка невидаль!
Ночью она подошла к деревьям и дыхнула на них зеленым своим дыханием.
Пустынными были улицы в этот час, и никто не видал, как ложились первые отсветы дня на тихую поверхность рек; и как благодарно, и тайно, и счастливо подхватывали московские воды свет раннего, самого раннего утра; и как бережно мчали его вперед, все вперед-вперед, каждой каплей своей.
А зубчатые стены Кремля, очерченные светлеющими небесами! Это лучший час Красной площади. В этот час Кремлевские стены хороши до щемоты в сердце.
Светлеет. Светло... Загорелись от первого солнца купола Василия Блаженного. Зевая, подхватывают отблески утра окна жилых домов. Пораженные, не понимая, что же это такое нынче с ними творится, стоят на постах молодые милиционеры, охваченные смутным предчувствием счастья.
Минута! И вот уж выскочила из-за угла поливочная машина... Грузовик. И еще один.
Побелел край неба. Звякнул трамвай. Хлынули на улицу москвичи.
Они переполнят сейчас метро, троллейбусы и автобусы, заслонят Москву, заслонят утро.
Но разве им заслонить весну?
Она не спала всю ночь. Работала. Она снимет свой номерок в проходной года только тогда, когда повесит на табель свой номерок лето.
Она работяга, весна. Ни одно деревце, ни один лопух не обойдены ею.
Набухла каждая древесная почка. А запахи!.. Плохо разве она поработала над их оттенками!... А человечьи лица!
Но она не тщеславна. Нет. Не честолюбива. А всего лишь старательна. Труд ее — труд высококвалифицированный. И темпов она не снизит, независимо от наших вздохов, влюбленностей и переэкзаменовок.
— Весна! — сказала Кира.
И на этот раз не солгала. Рядом с ней, над ней, под ее ногами — со сбитым каблуком левой туфли — была весна.
— А нет ли билетика лишнего? — унижалась очередь.
— Биле-етик. Биле-етик... Нет ли билетика?
В фойе был джаз. Дирижер, искусно просияв унылым своим лицом, объявил солистку.
Она вышла на авансцену, немолодая, усталая... И приступила к делу: улыбнулась губами, накрашенными нежно-лиловой помадой.
Мы по палубе бегали, целовались с тобой...
— Бедняга! Да кто ж это согласится ее целовать?
— Странно ты говоришь, Кира. А вдруг она замужем?
— Разве твои папа с мамой целуются?
— ...?
— И мои никогда не целуются. Мой папа любит только красивых и молодых.
— Полно врать! Уж будто я не знаю Иван Иваныча!..
— Нет. Ты не знаешь. Он любит цветы... И музыку. И балерин. Он мужчина, но здорово на меня похож!
— Да будет тебе. И уж во всяком случае не он на тебя, а ты на него.
— Пусть по-твоему. Я знаю, что говорю!
Открылась дверь в кинозал. Подхваченные толпой, они вплыли в его полумглу, жуя на ходу пирожные с заварным кремом.
Свет погас. Темноту рассек круглый глаз ручного фонарика. Билетерша, пригнувшись указывала места, зрители бодро ругали каждого опоздавшего.
— Тишина... Наконец-то!
В зал вместе с юным самураем, облаченным в парадные шальвары хаканги, шагнуло искусство.
...Опыт требуется не только для понимания какого-нибудь сложнейшего обстоятельства. Нет. Он нужен и для того, чтобы ощутить теплоту чьих-то пальцев, необходим, чтоб засечь едва уловимое: то, к примеру, что сидящий рядом с тобой человек прижался к тебе плечом чуть сильней, чем надо. Само собой разумеется, что люди, вообще не похожие один на другого, разнятся и врожденными темпераментами.
Зрелость и та выбирает свои пути. (Один становится хорошим рабочим, другой — квалифицированным ухажером.)
Картина «Красная борода» была экранизацией классического японского романа девятнадцатого столетия. Плохие люди здесь были мерзавцами, хорошие — неуязвимы в своей победительной доброте. Одним словом — никаких льгот. Легко догадаться, что фильму предстояла счастливая концовка. (Вспомните о романах Диккенса. XIX век.)
Нынче — мы шустрые. Мы знаем, что не все на свете кончается хорошо. И все же искусство сохраняет для нас свою магию, ибо в искусстве всегда есть магия — даже если оно печально.
Кира вздрагивала; в том месте, где женщины склоняются над колодцем, посылая в его глубину имя больного мальчика для того, чтобы услыхала их просьбу Земля и сохранила ребенку жизнь, ногти ее вонзились в Севину ладонь. Он ей ответил мягким пожатием и зашуршал оберткой от шоколада.
Картина окончилась. Люди хлынули к выходу. В ярком свете Кира увидела спокойное, рассеянное лицо своего провожатого. Отгораживая Киру локтями, он вел ее сквозь толпу.
...Вот и бульвар. В его центре — пенсионеры, в дальних углах — влюбленные. Ну, а может, это и не влюбленные вовсе!.. Ведь не только любовь, даже самые крошечные влюбленности далеко не всегда рассиживают на скамейках в скверах, точно так же как подлинные влюбленности далеко не всегда «валяются на дорогах».
Весна... Ее ловит глаз вон той одиноко шагающей по бульвару семнадцатилетней девочки. Ладони девочки скрещены на затылке. Она идет, рассекая весну, занятая только собой, собой, своими тревогами и сомнениями... (Если бы ей сказали, что та прогулка, этот ее бессмысленный, торопливый шаг и есть счастье, что редко достанутся ей такие минуты, — потому что счастье, как и влюбленность, на улице не валяется, — она засмеялась бы вам в глаза.)
...Бредет по бульвару женщина. Усталая, немолодая. И радуется весне. Нет у нее и не будет спутника. Ее спутник — весна. Но женщина знает — это вовсе не мало. Она успела понять высокую ценность жизни, научилась признательности.
Шагают, шагают, шагают люди. Шуршит под ногами песок и гравий... Зажигается красный, зеленый и желтый свет мигающих светофоров.
Город не видит луны и звезд. Они — дети лесов и полей. Не снизойдут они до большого города.
У городов свои звезды и полумесяцы.
...Дошли до подъезда, и остановились. Кира почему-то не протянула ему руки. Она чертила на тротуаре полосы и квадраты носком своей сбитой туфли.
И вдруг — закрыла глаза и откинула голову.
Потерянный, он стоял рядом с ней, не зная, что делать.
— Ну!
И Сева первый раз в жизни поцеловал девочку. Он не был тем человеком, которому дано изобрести поцелуй. Он не изобрел бы его, если бы эта форма человеческого общения не была бы открыта до нас, нашими прапрадедами.