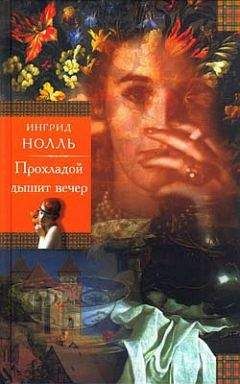Крепче, забористей запахло дегтем от тележных колес, а от начищенной до глянца упряжи — горячим лошадиным потом. Сквозь густые теплые запахи пробивались тонкие, свежие — васильков, ромашки, душистого желтого катрана и других степных цветов, разросшихся по краям дороги и по ближним пригоркам.
Шефтлу давно не было так хорошо, как теперь. Развалившись па ворохе сена, он, довольный оглядывал высокую пшеницу на полях, принадлежавших соседнему колхозу. Ничего не скажешь, хороши хлеба, но у него в бригаде пшеница лучше, куда лучше. Что ж, видно, недаром на совещании упоминалось его имя.
Извечная крестьянская жилка, понуждавшая когда-то заботиться о своем дворе, о свеем хозяйстве, сказалась и теперь, заставляла его думать о всей бригаде, хозяйство его должно быть лучшим из лучших. Превозмогая усталость, Шефтл работал с рассвета до позднего вечера. С детства вставал рано. Но с тех пор как стал бригадиром, вскакивал с постели до первых петухов. Было совсем темно, когда он выходил из дому: проверить, сыты ли кони, осмотреть упряжь, машины. За всем нужен глаз да глаз. Он и ночью, и под дождем, небритый, в ватнике, в тяжеленных кирзовых сапогах, шагал за гудящим трактором по полю, по низинам и изгоркам, следя, чтобы везде земля была хорошо вспахана, запасался семенным зерном, очищал его перед посевом, загодя вывозил на поля удобрение и все лето посылал людей на прополку.
Да, работы хватало. И чем больше ее наваливалось, тем лучше он себя чувствовал. Эта напряженная, деятельная жизнь доставляла ему удовольствие, которого он раньше не знал.
Вчера на районном совещании Шефтл за весь день ни разу не поднялся с места, даже покурить не вышел, боялся пропустить самое главное. Он внимательно слушал других бригадиров, отмечал в памяти всякое нововведение.
Солнце стояло высоко, когда Шефтл издали увидел поля своего колхоза. Вспомнил о Зелде и тяжело, протяжно вздохнул.
«Да что я такого сделал? — оправдывался он перед собой, пытаясь заглушить виноватое чувство. — Ну, повидался с Элькой… Мне что, нельзя ее навестить? Посидели, поговорили… Нельзя уж и поговорить с человеком? Чем Элька хуже других людей?»
Но в душе он отлично знал, что сам себя обманывает. Элька была для него особенной — не как все остальные. С той минуты, как он ее увидел снова, она не выходила у него из головы. Однако ему очень хотелось уверить себя, что ничего не случилось, и он старался думать о Зелде, всеми силами возбуждал в себе доброе чувство к ней. Она ждет, беспокоится. Добрая, работящая, преданная… Понимает его с полуслова, предупреждает каждое его желание. Недавно он зря накричал на нее, обругал. А она ему и слова не сказала… Не заслужила она, чтобы обижал ее.
Как Шефтл ни старался думать о Зелде, только о ней, нарочно перебирая в памяти все ее достоинства, но против воли перед глазами снова и снова вставала Элька, вспоминались мельчайшие подробности их встречи…
«Шефтл, это ты, Шефтл?» — вскрикнула Элька и протянула к нему руки. Какая она была красивая! Как подбежала к нему, словно хотела обнять его. Только теперь, отъехав от Гуляйполя на добрых тридцать километров, Шефтл сообразил, что Элька хотела расцеловаться с ним. А он, дурак, растерялся. Вместо того чтобы обнять ее. поцеловать, подал ей руку… Ах, черт! Ведь она в самом деле хотела его поцеловать,
Вот и гуляйпольские могилки показались впереди… Шефтл гикнул на коня, гнедой, мотнув головой, пошел быстрее. Внезапно из-за холмика вынырнули двое ребят, мальчик и девочка, и, пыля босыми ногами, с радостным визгом побежали навстречу Шефтлу.
— Пап, это мы, пап!..
Шефтл, растерявшись, не сразу остановил коня.
— Что вы тут делаете? Как сюда попали? — спросил он строго, соскочив с двуколки.
— А мы тебя ждем, — ответил Шмуэлке, потупив взгляд и ковыряя землю босой ногой. — Встречаем тебя….
— И давно ждете? — усмехнулся Шефтл. Девочка, поймав его улыбку, весело подпрыгнула.
— Мы тут с самого утра, с самого, самого… Мы знаешь где спрятались — вон за тем холмиком, в пырее…
— А я тебя увидел первый! Ты был еще совсем далеко, когда я тебя увидел, — сказал Шмуэлке.
— А потом я увидела…
— А ты нас не видел…
— Скажи-ка, а мать знает, где вы?
— Она сама сказала. Велела ждать тебя возле плотины, — торопясь и захлебываясь объясняла Эстерка, — а мы… а мы прибежали сюда, потому что с могилок лучше видно… Видишь, а я в новом наряде, — похвалилась девочка и погладила себя по ситцевому, в синих цветочках, платьицу. — А Шмуэлке мама дала сегодня белую рубашку, ту, что перешила из твоей…
— Ну, раз так, полезайте в двуколку.
Шефтл подхватил сначала Эстерку, потом Шмуэлке, усадил их в двуколке, а сам уселся посередине, широкой рукой погладил по голове, посмотрел, надежно ли сидят, для верности прижал к себе — и взялся за вожжи. Гнедой взял сразу бодрой рысью, и двуколка, поскрипывая, плавно покатилась по дороге.
— Ну, а что там мать делает?
— Мама? Мама белье стирала, все-все перестирала, а потом мы убрали двор, и в доме тоже, и все так красиво, — запрокинув головку и щурясь на солнце, бойко щебетала девочка. — Мама повесила новые занавески и стол накрыла красивой скатертью, с кисточками, все-все чистое, а ночью мама варила обед. Тыквенную кашу,
мясо с подливкой, щавелевый борщ и еще что-то, все, что ты любишь. Мама сказала, что ты вот-вот приедешь, мы тебя так давно ждали, а тебя нет и нет.
— Почему — нет? — смущенно проговорил Шефтл и опять погладил детей по головкам. — Вот же я приехал…
— Да, теперь-то приехал, а раньше не ехал, — обиженно буркнул мальчик. — Все другие давным-давно приехали, один ты… поздно…
Шефтл промолчал. Ведь несмышленыши, не понимают ничего, а чувствуют, что неспроста он задержался. И Шефтлу захотелось сейчас же, не дожидаясь, пока доберутся до дома, порадовать ребят. Он резко потянул вожжи, остановил коня.
— А что я вам привез, — сказал он, доставая из-под сена сверток с подарками. Развернул бумагу и протянул в одной руке красную губную гармонику, в другой — синюю свистульку. — Ну как, нравится?
Увидев гармошку и свисток, дети забыли обо всем на свете. Они во все глаза уставились на новенькие, ярко раскрашенные игрушки, потом попробовали, приложили их к губам — и начался концерт, хоть уши затыкай! Шмуэлке, оттопырив мокрые губы, изо всех сил дул в свисток, а Эстерка усердно водила по губам гармошкой, извлекая из нее диковинные, тягучие звуки.
Они уже подъехали к плотине. Впереди зеленели палисадники. Сквозь зелень Шефтл увидел, что улица напротив Доди Бурлака полна людей. Мужчины, женщины, дети — точно весь хутор собрался. «Неужто к Бурлакам на пир?» — подумал Шефтл. И вдруг до него донесся многоголосый женский плач.
— Тише вы, погодите гудеть! — прикрикнул он на ребят. — Что там случилось?
Шефтл так хлестнул гнедого, что тот, закусив удила, пустился вскачь. Обогнув загон, Шефтл увидел — Зелда с ребенком на руках бежала ему навстречу.
Мысли одна страшнее другой пронеслись у Шефтла в голове.
— Ой, Шефтл, Шефтл!.. — стонала Зелда. Платок у нее сбился, волосы растрепались, глаза красные.
Шефтл резко натянул вожжи и на ходу спрыгнул с двуколки.
— Ой, Шефтл, несчастье-то какое… А тебя все нет и нет… Еле дождалась…
— Что тут случилось? — воскликнул Шефтл.
— Ты что, не знаешь? — остолбенев уставилась на него Зелда. — Ты ж едешь из райцентра.
— Так что с того? Да говори же!
— Война…
Зелда припала к нему и громко разрыдалась.
Глава седьмая
Кто мог подумать в это погожее воскресное утро, что над землей разразится гроза, страшнее какой не может быть на белом свете…
Был выходной накануне жатвы. Все работали у себя на дворах: кто крышу перекрывал, кто чинил покосившийся забор, полол на огороде картошку, ладил улей. У каждого было полно забот.
Шия Кукуй вдруг спохватился — его Белуха до сих пор не обгулялась. И он, ругая себя за ротозейство, накинул ей на рога веревку и повел на племенную ферму. Липа Заика все утро гонял с огорода соседских кур, кляня их на чем свет стоит — разорили лучшие грядки, У Друяна тоже была причина для огорчения — опоросилась его Чемберлениха и вместо восьми поросят, как он ожидал, принесла всего пять.
Были и другие нежданные печали. Калмен Зогот, сев завтракать и развернув областную газету, увидел вдруг статейку о бурьяновской молочной ферме. В статье хвалили самых слабых работников, а его, Зогота, хоть бы словом упомянули! Горячая картошка с квашеным молоком и даже блинчики с творогом так и остались на столе нетронутыми.
Старик Рахмиэл тоже был озабочен в это утро: единственное абрикосовое дерево в палисаднике начала ни с того ни с сего сохнуть. А у Риклиса, как назло, схватило живот; он чуть не плакал от досады — надо же, именно сегодня, когда Бурлак задает пир на весь мир!