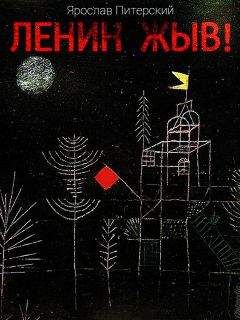«Лучше б я лежала на Волковом кладбище, — плачет она, — лучше б она здесь сидела и видела это».
— Хорошо, — сказал я, пытаясь прервать его, — а где же настоящая мать Степана Тимофеевича?
— В заморозке, — сказал он бодро и добавил: — Как только мы победим, мы разморозим Степана Тимофеевича и наградим его орденом Ленина. Он заслужил.
— А мать? — спросил я.
— А мать выводить из заморозки нерентабельно, — сказал он, хозяйственно разводя руками, — ей почти восемьдесят пять лет.
Боясь, что последуют какие-нибудь малоприятные детали заморозки, я решил вернуть разговор в главное русло.
— Так, значит, после покушения Каплан до смерти в Горках не вы правили страной?
— Нет, конечно, но по моим инструкциям. Кое-где внес отсебятину, но в общем правильно двигался к нэпу…
— Вы уж помолчали бы о нэпе, — не выдержал я. — Разве это реформа великого государственного деятеля? Это все равно что в овчарню, где в одном углу сгрудились овцы, а в другом волки, входит пастух и говорит: «Волки, овец не надо грызть. Их гораздо выгодней стричь, продавать шерсть и покупать мясо. Нэп всерьез и надолго». Но как только он вышел, волки перегрызли овец. Зачем им шерсть? Вот оно живое, дымящееся мясо. Великий государственный деятель потому и велик, что он создает законы и способы управления, которые нелегко разрушить.
Пока я говорил, он слушал меня, поощрительно кивая, иногда как бы пытаясь движеньем головы помочь мне глубже черпануть истину Самое удивительное, что эти поощрительные движения головы и в самом деле помогали сформулировать то, что я хотел сказать, хотя направлены были как будто против него.
— Насчет овец и волков в овчарне вы попали в цель, — сказал он, — разрешите записать. Я это сравнение использую в первом же своем докладе после переворота. Тем более что я сам так думаю.
Он выщелкнул из-за ворота тельняшки авторучку, вынул из кармана блокнот и, склонив голову, стал быстро-быстро записывать. Я почувствовал, что устал от него, и разлил коньяк. Он четким шлепком захлопнул блокнот, положил его в карман и заткнул авторучку за край тельняшки. Мы выпили не чокаясь.
— Волки, — вдруг сказал он грустно и поставил рюмку на столик, — а как без волков возьмешь власть? Мои инструкции хронически запаздывали: то шифровальщик напутает в Германии, то расшифровщика арестуют в Москве… Только, ради Бога, не говорите мне о коллективизации, голоде, тридцать седьмом… Мне эти разговоры надоели. Я могу представить документы за подписью Эрнста Тельмана, что я в это время был в глубокой заморозке и ничего не знал… А вы знаете, где сейчас Сталин?
— Как где? — сказал я. — В могиле у кремлевской стены, куда его перенесли из Мавзолея, где он лежал рядом с Лениным…
Тут я запнулся и посмотрел на него, понимая некоторую нелепость или даже бестактность этой фразы в данном случае. Он мгновенно угадал, почему я запнулся, и залился знаменитым ленинским детским смехом.
— Ничего-то, батенька, вы не знаете! — проговорил он, сияя и сверкая буравчиками глаз. — И никогда он не лежал в Мавзолее с Лениным или без Ленина, тем более что и сам Ленин там никогда не лежал. Не мог же я лежать одновременно в Мавзолее и в Гамбурге в заморозке? Абсурд! Там лежал и лежит тот самый сормовский товарищ. И положил его туда Сталин. А сам Сталин сейчас в Пентагоне…
— Как в Пентагоне? — не понял я.
— Пока в глубокой заморозке, — сказал он, — но в нужный для Америки час они его разморозят. Возможно, даже проведут косметическую операцию и впустят в страну, если наш переворот будет удачным. А он обречен быть удачным. Драчка будет невероятная. Я дам ему последний бой и за все отомщу.
С этими словами он опустил глаза и достал из кармана старинные серебряные часы на цепочке. Щелкнул крышкой, метнувшей солнечный зайчик, и посмотрел время. Снова щелкнул крышкой и спрятал часы.
— Как раз мне сейчас надо звонить по этому поводу, — сказал он, — а потом я приду и расскажу, как Сталин от Берии удрал к Франко и как его там заморозили. Ждите и помните, что вы наш. Вы еще пригодитесь для пролетарского дела.
— Ничего не понимаю, — сказал я и вздрогнул, чувствуя холодок неведомой заморозки.
— Поспешишь сказать — опоздаешь сделать, — загадочно произнес он в ответ и, резко встав, быстро пошел к выходу, рябя на солнце своей тельняшкой.
* * *
Жирная, мускулистая спина, обтянутая тельняшкой, решительно удалялась. Глядя на нее, я подумал: миром правит энергия безумцев.
Но если мир все еще жив, значит, есть и другая энергия, другой уровень понимания человека. В учении Христа, может быть, всего удивительней то, что уровень понимания человека высок, но не завышен.
Что бы там ни говорили богословы, я думаю, что Христос создал свое учение именно как человек, а не Бог. В его учении нет ничего такого, что не было бы подтверждено человеческим опытом. Если что и было в его учении божественного, так это точность в понимании реальных возможностей человека.
Было бы странно и непоследовательно, если бы он, будучи Божьим Сыном, принял смерть именно как человек, а учение, которое он оставил людям, было бы результатом божественного откровения. Как раз потому, что он учение свое создавал на основании пусть и гениального, но человеческого опыта, он и смерть принял как человек — неохотно, томясь духом, тоскуя.
Уподобляясь древним грекам, представим случившееся так. Бог сказал своему сыну: «Что-то я перестал понимать людей. Один глупый рыбак может так запутать леску, что десять умных рыбаков ее не распутают. Сойди к людям и пройди как человек весь человеческий путь. Дай им урок и возвращайся обратно. Но если и это им не поможет, я эту лавочку прикрою вообще».
Кажется, подвиг Христа был бы гораздо убедительней, если бы он, родившись человеком, забыл, что он Бог, и люди узнали бы об этом только после его воскресения. Но это только кажется.
Если бы Христос не знал, что он Богочеловек, не было бы не только подвига его человеческой смерти, но не было бы и подвига снисхождения Сильного к слабым, дабы помочь им восстановить силу духа. Это урок терпения и любви, тем более что мы понимаем: при повышенной тупости учеников он мог в любой миг прервать этот урок и удалиться от людей. Но он не прервал урок, его прервали.
Человек ужасно не любит снисходить. И чем упорнее, обдирая ногти, он карабкается вверх, тем неохотнее он снисходит к тем, кто внизу. Но чем сильнее человек, чем легче ему дается высота, тем легче он снисходит к слабым. По легкости снисхождения к слабым мы познаем истинную высоту человека.
При всей своей внешней простоте, учение Христа гибко следует природе человека, протягивая ему руку, когда он падает, и удерживая его от гордыни, когда он возвышается.
Человек живет, преимущественно ориентируясь или на уколы совести, или на логику выгоды, пусть иногда и широко понятую.
Уколы совести тормозят жизнь, заставляют отступать, делать зигзаги на жизненной дороге, но это настоящая жизнь без обмана и самообмана, где тише едешь, дальше будешь.
Человек, следующий логике выгоды, не склонен обращать внимание на уколы совести. При этом чем шире логика выгоды, скажем, якобы выгода всего человечества, тем глуше уколы совести. Человек, следующий логике выгоды, видит ясные стреловидные дорожные знаки, не подозревая, что это вытянутые змеи и они могут привести только к змеиному гнездовью.
Рационалистическая организация общества — это та же логика выгоды, разумеется, широко понятая. Она всегда сводится к тому, что, прежде чем поднять человека, на него надо наступить.
Но если рационалистическая модель общества сводится к тому, что на человека надо наступить, прежде чем его поднять, не является ли само желание наступить на человека подсознательно первичным, а вся остальная модель разумного общества наукообразным оправданием этого желания?
Крупская в своих удивительно тусклых воспоминаниях о Ленине рассказывает вот что. Ссылка в Сибирь. Ленин развлекается охотой. Страшно азартен. Осенний Енисей. Идет мелкий лед, шуга, Ленин с товарищем по ссылке на лодке переправляется на островок, где полно застрявших там и уже выбеленных зайцев. Они стреляют по зайцам. Зайцы мечутся по островку. Им некуда деться. Они мечутся, как овцы, простодушно пишет Крупская. Из этого следует, что островок был совсем крошечным, потому что бег зайца совсем не похож на бег овцы. Но зайцы в этих условиях бестолково мечутся и обречены, как овцы. Отсюда и сравнение с овцами.
Охотники стреляют и стреляют по зайцам. Набили полную лодку зайцев, пишет Крупская. Из ее слов видно, что так бывало не раз. Значит, Ленин не случайно однажды сорвался, увидев множество зайцев? Это важно.
Всякая охота предполагает, что охотник имеет шанс убить дичь. А дичь имеет шанс улететь или убежать. Здесь у зайцев никаких шансов не было. Это была бойня. Прообраз грядущей России.