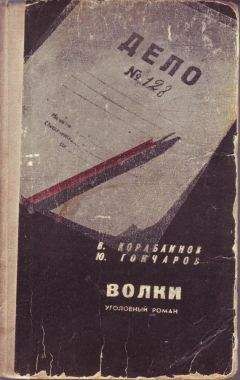Слезы обильно покатились из глаз Мировицкого, закапали на измятый, давно уже требовавший стирки парусиновый пиджак.
– В каком же часу уходили вы от Афанасия Трифоныча?
Внешне Баранников, казалось, вполне поверил Мировицкому и вполне удовлетворился его объяснением.
– Поздненько. Что-то уже около полуночи. А как до жилища своего дотащился, как раз полночь и сравнялась…
– Неужто Афанасий Трифоныч так расхворался, что даже дверь запереть стало ему не по силам? Вроде бы ведь самочувствие его было не таким уж плохим…
– Старые недуги возродились. Сердчишко ослабло. В таком возрасте так: сегодня жив, а завтра на погост провожают… А вчерашним днем ему еще досталось баталию с родственниками держать, совсем она его подкосила.
– Слышал, слышал про это… Один из его родичей – Илья Николаич Мязин – с вами вместе проживает?
– Ну, не так чтоб уж вместе… Просто у одного и того же хозяина квартируем… Я комнатку в девять квадратных метров в верхней половине дома снимаю, а Илья Николаич в подвальной части помещается, с хозяевами. Угол ему там сдан, угловой жилец – по-старому сказать…
– Вы с ним часто общаетесь?
– Знакомство наше поверхностное. В Илье Николаиче… как бы это выразиться… мало есть такого, что могло бы к нему располагать…
– Значит, – сказал Баранников, собирая на лбу складки, – вы ушли от Мязина близ полуночи. Так? Дом был заперт вами на замок, ключ вы унесли с собою и войти внутрь, таким образом, уже никто не мог. Как вы полагаете – отчего же возник пожар?
– Теряюсь в догадках и не могу понять… Афанасий Трифоныч всегда был так осторожен… Дом деревянный, полон книг… холсты… По этой причине он изгнал из комнат все опасное в пожарном смысле: керосин, свечи, электронагревательные приборы… Он даже курить посетителям, как правило, запрещал, все из той же предосторожности – как бы не заронили искру… Уж он-то понимал, случись что – преогромная выйдет беда. Непоправимая!
– Что и говорить! – в тон Мировицкому согласился Баранников. Он так уже подладился под старика, так звучали его реплики, что теперь, казалось со стороны, он просто беседовал с ним, без всякой скрытой мысли. – Представляю, в какую сумму оценивалась одна только его библиотека! А еще картины! «Магдалина»! Скажите, это правда, что ее собирались купить для Эрмитажа и уже вели с Афанасием Трифонычем переговоры?
– Ах, товарищ Баранников! – простонал Мировицкий, как от сильной боли, прикрывая глаза ладонью. – При чем тут денежная стоимость! Да разве можно это в деньгах оценить? Можно ли означить в рублях и копейках ценность идеи, например? А сколько богатейших, уникальных идей находилось в проектах, в рукописях Афанасия Трифоныча! Вот вы упомянули «Магдалину»… Может быть, многие миллионы людей еще прошли бы с благоговением перед этим чудом… В каких цифрах можно измерить воздействие великого искусства на человеческие души? Казню себя беспощадно и буду казнить до конца дней своих, что не внял вчера просьбе Афанасия Трифоныча поберечь это сокровище у себя… А он так настойчиво предлагал! Будто в точности знал, что не пережить ему ночь. Предчувствия у него были…
– Говорите – знал? Предчувствия, говорите? – насторожился Баранников, сдвигаясь уже совсем на кончик стула. В волнении он машинально погладил голову, от движения руки на его макушке растрепался и встопорщился светлый хохолок – как бы наружный знак крайней озабоченности словами Мировицкого. – Чем же были вызваны эти его предчувствия?
– Не смогу вам объяснить, со мною он не поделился. А я, мелкомысленный олух, отнес их за счет болезненного его состояния. Даже посмеяться позволил над ними…
– А скажите-ка, дорогой Евгений Алексеич, – мягко перебивая, спросил Баранников, и притом так, как будто бы о не особенно важном, просто потому, что вдруг случайно пришло в голову. – Конечно, вся обстановка в доме Мязина известна вам до мелочей… Почему в его комнате оказался вот таких вот размеров камень?
– Камень?
– Да-да, вот такой, – изобразил еще раз руками Баранников. – Может, это экспонат какой-нибудь из коллекций Афанасия Трифоныча?
– Не припомню… – проговорил недоуменно Мировицкий. – В комнате, где он спал, не было никаких камней… Нет, не было! – сказал он уже совсем твердо.
– Может, вы запамятовали? Может, камень этот совсем недавно появился? Может, вы его просто не замечали?
– Как бы я мог его не заметить? У Афанасия Трифоныча я каждый день бывал, случалось – по нескольку раз даже…
– Значит, вы определенно утверждаете, что никакого камня в комнате Мязина не хранилось?
– Да-с, со всею определенностью…
Баранников задумался.
– Вы все-таки загляните ко мне на службу, я вам покажу этот камень. Может статься, он вам что и напомнит.
Мировицкий ответил слабым кивком.
– А это самое… – Баранников, не желая называть словами, покрутил в воздухе кистью руки. – Ну, с чем вы пришли… Я понимаю, вас это мучит… Но вы же ведь не пророк, чтобы видеть события наперед? Как можно себя за это винить?
Мировицкий молчал, тяжело опустив крупную, в седых патлах голову. Панамка его, свалившаяся, когда он грохнулся на колени, лежала на полу, возле его ног в дешевых, сильно поношенных, покривившихся брезентовых полуботинках, зашнурованных, как заметил Костя, не тесьмою, а обыкновенной упаковочной бечевой.
Выпроводив старика, сунув ему в руку забытую им панамку, Баранников чуть не бегом возвратился в комнату. Энергия и нетерпение в нем бушевали.
– Ну, великий аналитик, любитель психологических изысканий, твоя точка зрения?
Костя затягивался сигаретным дымком. Он истомился, дожидаясь этого момента. Дернуло же Баранникова устроить дурацкий эксперимент и связать его заявлением, что в доме сожгли все спички!
– Ох и дорого бы я дал, только бы узнать, что же все-таки произошло с «Магдалиной»! – уже не думая о вопросе, брошенном Косте, кружа по комнате, воскликнул Баранников. – Сгорела она или лежит сейчас преспокойно в каком-нибудь укромном местечке?
– Если подходить только психологически, то я ответил бы так, – произнес Костя, тоже больше для самого себя, чем для Баранникова, поудобнее располагаясь с сигаретой на диване. Кто-то из знаменитых детективов утверждал, что разгадывать тайны не так уж трудно, для этого надо только поудобнее усесться и хорошенько подумать. – Допустим, что виновник происшествия – именно этот чудной старикан… Хотя, должен сказать, искренность его меня тронула… Ну, ладно, все же – допустим. Тогда, во-первых, для него не представляло никакой выгоды утверждать, что в доме Мязина не хранилось ничего воспламеняющегося. Выгоднее было бы сказать наоборот, чтобы объяснить пожар неосторожностью самого Мязина. Или свалить на посетителей… А то он ведь вот что даже подчеркнул: Мязин курить в доме не позволял! Во-вторых, насчет этого камня… Если притащил его он как орудие убийства, опять-таки прямая выгода для него была сказать, что камень и прежде находился в доме. Как образец какой-нибудь породы… Проверить-то уже невозможно, что было в коллекциях Мязина, чего не было… Далее, самое серьезное: зачем ему было признаваться, что дверь на замок запирал именно он, что он оказался последним, кто был вчера у Мязина, и, таким образом, сосредоточить подозрения на себе?
– Все это я уже подумал, – перебил Баранников нетерпеливо, вытряхивая из кастрюльки в глиняную миску Валета холодную картошку и добавляя туда куски хлеба со стола. – Но вот что я тебе скажу. То, что ты говоришь, было бы справедливо, если исходить из элементарной, типовой психологии преступника. А если Мировицкий поумнее, похитрее, чем ты думаешь? Если он сам в психологии дока и просто актерничал тут? Замышляя это дело, он ведь заранее знал, что подозрения на него будут очень сильны, в первую очередь на него упадут – уже по одному тому, что он самое близкое к Мязину лицо, что в доме ему все было доступно и открыто. А вдруг он решил так: вывернуться трудно, ну-ка устрою я казуистику! Поставлю в тупик именно тем, что не по той себя логике поведу, какую от меня ожидают! Доказательств прямых, фактических против меня не сохранится, огонь их все сожрет, из рассуждений только будут исходить… И следователь на такую удочку и клюнет: ага, поступает не по типовой психологии преступника – значит, не преступник! Что, ведь может так быть? Фу, черт, времени-то уже сколько!
Баранников поспешно облачился в пиджак, выправил из-под края рукавов на должную длину твердые манжеты нейлоновой рубашки.
– Нет-нет, дорогой, уважаемый Константин Андреич, поверь мне, представления твои упрощенные, – сказал он, приостанавливаясь у самой двери. – А я уже с такими казуистами сталкивался! Мировицкого одно только может вполне обелить – вот если бы нашлись доказательства, что «Магдалина» сгорела!..
Когда случалось какое-нибудь крупное несчастье и Косте по роду профессии приходилось прикоснуться к нему вплотную, своими чувствами измерить его трагичность, его всегда удивляло, что, как бы ни потрясающе было случившееся, как бы ни велико было горе затронутых несчастьем людей, – рядом продолжала идти своим обычным путем обычная жизнь, идти так, будто бы вовсе ничего не произошло ни в этом городе, ни на этой улице. Ему всегда было странно видеть, что люди так же спешат по своим делам, как спешили они вчера, так же поглощены своими привычными житейскими заботами, так же торгуются на рынке возле картошки, творога и яиц, стоят в очереди перед кассами кино, толкуют, встретившись, о каких-то пустяках, смеются, радуются каким-то своим радостям.