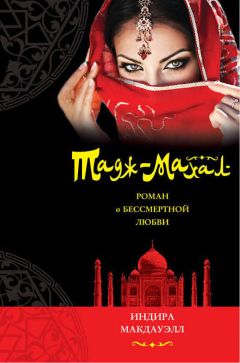Плохи дела, сокрушались бойцы, похвалиться нечем. Это Хомолье им вообще не по душе. Говорят, в соседней Крушевацкой области партизаны ни днем, ни ночью не дают покоя фашистским властям. Предатель, генерал Недич, тот самый, что сдал немцам Белград и организовал угодное им, лакейское правительство, жандармерию и свое сербское гестапо, жалуется в воззваниях к населению, что «область стала форменным адом», он закликает «людей, находящихся в лесах и горах», прекратить нападения. А вот тут, у Черного Верха, сидят неделями на месте, караулят в ущельях немецкие обозы, как какие-нибудь гайдуки в старину, мерзнут, болеют и все чего-то ждут, на зиму глядючи, а чего — никто не знает.
— У нас тоже так, брате, — глуховатым голосом сказал худой боец, тот, что угощал меня сыром.
У него был измученный вид; на остроносом костистом лице, туго обтянутом коричневой кожей, лихорадочно блестели светлые глаза с расширенными зрачками.
Смущенно теребя кончик длинного носа, он пояснил, что прибыл сюда с курьером Корчагиным из Первой бригады, которая стоит у Ливно в Западной Боснии.
— С Корчагиным? — удивленно переспросил я. — С русским?
— Нет. Это кличка политкомиссара нашей роты Иована Милетича. Мы надеялись получить здесь приказ… приказ о наступлении на Синь, — запинаясь, сказал боец.
— И не получили?
— Нет, не получили.
— Вот видите!
Кругом зашумели.
— Н-да, положение скверное, — раздумчиво протянул Колачионе.
— Вот тебе и улыбнулась фортуна, — поддел его Марино.
— Брате! — вдруг обратился ко мне изможденный боец, взмахнув рукой. — Идем-ка к другу Корчагину. Будет тебе рад. Он любит русских и все тебе расскажет.
Мне не терпелось узнать поскорее о положении на фронтах, о новых успехах Красной Армии, о том, что делается в мире. Политкомиссар роты должен был знать все последние новости. Вместе с Лаушеком я пошел за партизаном. А наши спутники остались у костра».
«…Близ самых скал, возле большой палатки с часовыми у входа, было устроено несколько шалашей из еловых веток. Партизан, сопровождавший нас, нырнул в один из них, через минуту по его знаку мы последовали за ним.
У небольшой кучки тлеющих углей, подернутых голубоватым пеплом, сидел на корточках молодой парень, лет двадцати трех. Завидев нас, он порывисто вскочил; невысокий ростом, стройный, широкий в плечах. На его складном, гибком теле несуразно обвисал чересчур просторный немецкий китель с протертыми обшлагами. Я сразу же очутился в его крепких объятиях, почувствовал на своем лице прикосновение подстриженных усов.
— Ты русский? Да? — Немного отстранившись, но крепко держа за плечи, он пытливо и быстро оглядел меня, словно желая найти внешние признаки того, что я действительно русский, потом усадил с собою рядом. — Как тебя звать?
Он говорил по-русски почти правильно.
— Николай Загорянов.
— Николай? А меня Иован, по-вашему — Иван, Иован Милетич. Ну, садись ближе ко мне. Это так хорошо, что мы встретились, Николай!.. Я давно знаю это имя. Вот смотри.
Он достал из полевой сумки сильно потрепанную книжку. На обложке я прочел: «Како се калио челик».
— Это роман «Как закалялась сталь» на сербском языке. Ваш Островский написал. Его тоже звали Николай. Я очень люблю эту книгу. Она всегда со мной. Я даже взял себе фамилию его героя, когда началась война. Может, это нескромно?.. Если бывает тяжело, я раскрываю книгу и читаю. Становится легче на душе… Ну, знакомься с моими товарищами. Это Джуро Филиппович, который тебя привел, спасибо ему. А это Бранко Кумануди… Бранко, ты что, спишь?
Из темного угла вылез закутанный в итальянскую шинель партизан, неуклюжий и грузный, с лоснящимся, одутловатым лицом и большой курчавой головой. Протерев заспанные глаза, он улыбнулся мне во весь рот и ни с того ни с сего сказал:
— Хвала богу!
— Мы все любим Советскую Россию, — с мягкими интонациями продолжал Иован Милетич. — Любим с детства. Я очень хочу, чтобы все плохое, что еще у нас есть, мы уничтожили, а всему хорошему научились бы у вас.
Он подбросил на тлевшие угли немного сучьев. Пламя ярко разгорелось. При его свете я, наконец, разглядел как следует этого парня с пылким темпераментом, резковатого и быстрого в жестах и речах. То, что он взял Корчагина себе в пример, тотчас же расположило меня к нему. Во всем его облике было что-то привлекательное, запоминающееся. Крупное смугловатое лицо, тщательно выбритое, с подстриженными усиками и чуть намеченной бородкой, открытый высокий лоб, небольшой правильный нос, несколько выпяченные губы, разлетистые широкие брови, темно-русые густые волосы. Глаза блестящие, карие, с продолговатым разрезом, взгляд твердый и прямой.
Милетич настойчиво начал звать меня в Боснию, в свою роту, в Шумадийский батальон Первой Пролетарской бригады, и тут же, не давая мне опомниться, торжественно заявил, что отныне мы — он и я — побратимы, названные братья: будем, как перелетные птицы в стае, крыло к крылу, во всем станем помогать друг другу. Таков старинный обычай побратимства.
«Русы храбрые юнаки, воевать помочь они нам могут!» — продекламировал Иован.
Обрадованный и возбужденный встречей со мной, он только сейчас заметил Лаушека, скромно присевшего у входа.
— А ты кто? — схватил он его за плечи. — Тоже рус?
— Нет, я чех, Евгений Лаушек.
— Чех? Замечательно! Все славяне — братья! В нашей бригаде, — с увлечением говорил Милетич, — есть люди всех национальностей страны, все простые трудящиеся. Потому она и называется Пролетарской. У нас Народный фронт! Вот Джуро, он серб. Крестьянин и лесоруб, умеет пахать, сеять, лес рубить и делать из дерева чашки, ложки, кадушки, гусли. Он из очень бедного села Велики-Цветич, это возле Дрвара, где сейчас находится наш верховный штаб. Видите, какой он худой? Кулаки сдирали с него кожу и лепили на свою, чтоб была толще. Вот и ободрали его, как липку, так что он бросил хозяйство и ушел в лесорубы. А посмотрите на Бранко. Он хорват из Сараево. Там у него маленькая кондитерская лавка. Казалось бы, что между ними общего? Селяк и кондитер. Серб и хорват. До войны у нас была такая либеральная газета «Политика». Я сам видел в ней смешной рисунок: два человека — серб и хорват — изо всех сил колотят друг друга, а внизу надпись: «Два совершенно одинаковых народа на одном и том же языке,[10] в одних и тех же выражениях стараются доказать друг другу, что они два совершенно разных народа». Вот как было. А теперь — смотрите. Борьба свела их вместе. Теперь они оба коммунисты и всегда «раме уз раме» — плечо к плечу. В их дружбе, в нашей дружбе сила партии! — с горячностью воскликнул Иован.
Лаушек прервал его:
— Хорошие, верные слова. Но… — Он нетерпеливо взглянул на меня. — Но, может быть, перейдем к делу? Где тут командование?
— Какое у вас дело? — быстро спросил Милетич.
Хотя он и сам был «гостем» в бригаде, я все же решил посоветоваться сначала с ним и подробно изложил ему наш план нападения на Бор.
— Там ждут, — добавил я. — Если действовать энергично и внезапно, успех обеспечен. У нас есть сведения о Боре, которые будут полезны командиру бригады. Надо ему обо всем доложить.
Милетич сначала увлекся планом, но потом, будто что-то вспомнив, заметно смутился, помрачнел.
— Доложить-то можно, — проговорил он. — Но стоит ли? Я сомневаюсь. Да и нет сейчас командира бригады. Его отослал куда-то комкор, который тут находится. У верховного штаба насчет Бора есть какие-то свои соображения. Там, должно быть, лучше разбираются в здешней обстановке, — добавил он, пожав плечами.
Мы разочарованно помолчали.
— А какова сейчас вообще обстановка? — наконец, приступил я к расспросам. — Насколько продвинулась Красная Армия? Как со вторым фронтом?
— А разве вы ничего не знаете? — изумленно поднял на меня глаза Милетич. — А… Ну, разумеется… Так я вам все расскажу. Все, все! Садись, Евген.
Лаушек присел на обрубок дерева.
Иован плотнее закрыл вход в шалаш дверцей, сплетенной из высокой травы.
— Поговорим обо всем… Второй фронт? — Он с грустью развел руками. — Его еще нет. Но…
С загадочной улыбкой Милетич порылся в своей полевой сумке, туго набитой разными книжками, вырезками из газет и бумагами.
— Все мои агитматериалы здесь. Полный багаж. Вот! — Он достал листок, напечатанный на шапирографе. — Последние известия очень хорошие. Недавно в Тегеране состоялась конференция. Собрались Сталин, Рузвельт и Черчилль. Второй фронт скоро будет открыт, скоро! Уже назначены сроки операций. И есть декларация о мирном сотрудничестве после войны всех стран, больших и малых. Представляете?
— Это значит — конец войнам! — оживился сосредоточенно слушавший Лаушек. — Клянусь небом и землей, это великолепно. Дай бог, чтобы так было, дай бог, дорогие мои друзья!