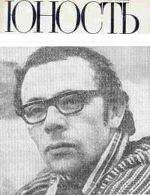— Меня здесь торопят, очередь большая. До свиданья, Борис Антонович!
— До свиданья, — сказал я и бросил трубку на рычаг.
В обеденный перерыв я заглянул в комнату Кротовых. Катя стояла в фартуке перед плиткой и вяло помешивала что-то ложкой в кастрюле.
— Ну, Катерина Алексеевна, — заговорил я с порога, — перестаньте хандрить. Только что звонил Сергей. Он жив-здоров, вернулся из оленеводческой бригады, передает вам пламенный привет и поцелуи. Послезавтра будет здесь, если не помешает погода.
Она даже подпрыгнула:
— Правда? Как хорошо! Спасибо, что сказали!
— Это мой редакторский долг — поднимать дух своих подчиненных. Но на будущее постарайтесь сделать так, чтобы в отъездах он скучал больше, чем вы. Понимаете?
— Не-ет… Вы думаете, он не скучает?
— Не сомневаюсь, что скучает. Но не теряет ни бодрости духа, ни вкуса к жизни. Теперь понимаете?
— Кажется, да… Я постараюсь. Конечно, вам противно смотреть на мою скучную физиономию. Уже все смеются. Я случайно слышала разговор в аппаратной. Говорят, что я по Сереже сохну. Это, конечно, правда, но я не понимаю, что тут смешного?
Я улыбнулся.
— А почему вы в столовую не ходите? Здесь не очень удобно готовить.
— Там люди.
— Вот и прекрасно. Вы что, человеконенавистница?
— Нет, что вы! Просто Сережа просил меня не ходить.
— Это что за новости?
Она замялась. Видно было, что ей не очень хотелось разглашать маленькую семейную тайну.
— Понимаете… мы решили везде всегда ходить вместе.
— Ага! Выходит, вам и в кино одной нельзя появиться?
— Нет, почему же. Я, конечно, могу сходить в кино. Но мне не хочется обижать Сережу.
— Обижать?
— Ну, понимаете, это будет нечестно по отношению к нему.
— Нечестно?
— Ну да, нехорошо! — окреп ее голос. — Как будто я сама по себе, а он сам по себе… Понимаете?
— Пытаюсь. Вы извините, Катя, он что, современный Отелло?
Она опустила голову. Нога в тапке принялась чертить по полу.
— Не в этом дело… Сережа, конечно, ревнивый, как все мужчины… («Гм…» — кашлянул я, не вполне согласный с этим заключением.) Но, если хотите знать, мне самой без него никуда не хочется ходить. Мне скучно без него.
— И поэтому вы по вечерам сидите в этой келье или на завалинке. Так?
Кивок Кати подтвердил, что именно так.
— Ясно, — подытожил я. — Возможно, у меня устаревшие представления о семейной жизни, но, должен сказать, я не совсем вас понимаю… Что пишут из дома, если не секрет?
Ее тапка замерла, потом опять начала вычерчивать на полу петли и зигзаги.
— Ругают…
— Все еще? Кажется, пора бы им привыкнуть.
— Нет, мама очень сердится. Она такая впечатлительная, даже заболела от огорчения. Знаете, она пишет, что приедет сюда и заберет меня силой. И вам хочет написать. Вы не получали от нее письма?
— Нет, не получал. А чем, собственно, я могу помочь вашей матери? Запечатать вас, как бандероль, и отправить по почте в Москву?
Катя засмеялась, верхняя губа у нее вздернулась, как у симпатичного зверька.
— Сережа не даст вам меня отправить!
— Опять Сережа! Да я и не спрошу вашего Сережу. Очень он мне нужен, ваш Сережа! Кстати, а как его родители относятся к вашему браку?
— О, они молодцы!
— Вот как?
— Они просто молодцы! А Сережа смеется. Он говорит, что у всех родителей бывает стрессовая ситуация, когда их дети уезжают. Говорит, что чем раньше это случится, тем лучше.
— Да он философ к тому же! Она не приняла моей иронии.
— Понимаете, Сережа считает, что сейчас взрослые люди очень расчетливы. Все борются за теплые места, очень большое значение уделяют деньгам. А нам всякое приспособление противно. И поэтому родители нас не понимают. Они стараются сделать как лучше, а нам этопретит… Я с ним спорю, но он всегда побеждает. Я в логике очень слаба.
— А он, значит, силен?
— Да, с ним трудно спорить.
— Так-так… Приводите его как-нибудь ко мне в гости, хочу послушать его логические упражнения.
После обеда, проходя по коридору мимо фонотеки, я услышал, как за дверью стучит машинка. Почудилось, что она выбивает: «Сережа… Сережа…»
Накануне прилета Кротова мне пришлось кое-что услышать о нем.
Рабочий день был в разгаре: стучали машинки, крутились магнитофоны, ревели динамики, звонили телефоны — все, как водится в любой редакции радио, даже в такой захолустной, как наша.
Я просматривал и правил в своем кабинете выступление председателя охотничье-промыслового управления, когда вошел Иван Иванович Суворов. В последние дни мы встречались с ним лишь мельком — на утренних летучках да еще случайно в кабинетах. Как обычно, Суворов передавал мне свои материалы на подпись; я правил, нередко вычеркивая целые страницы; он принимал правку без возражений.
Итак, Суворов вошел. Он был в новом черном костюме, ворот белой рубахи сдавливал ему шею. Маленькие глаза необычно посверкивали.
— Разговор к вам имеется… дозвольте?
— Садитесь, Иван Иванович.
Он уселся, потер руки, расправил морщины на лбу.
— Даже два разговора. Первый такой. Заметку-то помните о медведе, которую этот сопляк исчеркал?
— Заметку помню. Сопляка не знаю.
— Ишь как! Опять защищаете его. Ну да ладно, пускай не сопляк, пускай Кротов. Так вот Кротов-то этот, сопляк, исчеркал, а вы его писанину одобрили. А я заметку эту прямо в Москву послал, в редакцию «Маяка». И что бы вы думали?
— Судя по вашему виду, она прошла в эфир.
— Совершенно точно. Правильно угадали. Вот так-то! — он удовлетворенно хмыкнул.
— Поздравляю. Я думаю, вы понимаете, что после этого триумфа снисхождения к вашим материалам тем не менее не будет?
— Правьте, правьте! Правду не зачеркнешь, она завсегда наружу вылезет.
— Этот афоризм стилистически не безгрешен. Что еще, Иван Иванович?
Он помрачнел, насупился, но только на мгновенье.
— А еще вот что. Возвратился на днях из Улэкита один человек. Был он там по делам и прослышал про сопляка нашего.
— Последний раз предупреждаю…
— Ладно, ладно, не буду уж! Прослышал он, значит, про командировочного нашего и до сих пор, представьте себе, очухаться не может. Любимец ваш умудрил такое, что теперь не знаю уж, как это на вас лично отразится.
— Обо мне не беспокойтесь. Что случилось? Говорите яснее.
— Да что тут долго говорить-то! Вам лучше должно быть известно, откуда у вашего подопечного церковный крестик взялся.
— Что такое? Какой крестик?
— Какие бывают крестики? Видали, наверно, какие крестики верующие люди носят? Вот у вашего такой же оказался, хотя для сопляка этого Иисус Христос все равно что для оленя квашеная капуста… Проторговал он крестик, вот что! Обменял на шкурку! — выложил Суворов свою новость.
Я смотрел на него в полном замешательстве. Суворов сидел с тихой улыбкой на губах.
— Вы отвечаете за свои слова, Иван Иванович?
— Если мне не доверяете, расспросите Вениамина Ивановича Бухарева. Ему тоже стало известно.
— Это плохая новость.
— Да уж что ж тут хорошего, — согласился он.
— Подробностей не знаете?
— Всего не знаю, а известно только, что продал он этот крестик Филипповым, староверам. А те, надо полагать, кому-то проговорились, и слух до Бухарева дошел, — Суворов как-то горестно помолчал. — Предупреждал вас, что добра с ним не наживете. Теперь расхлебывайте кашу. Жалко вас даже… — посочувствовал он.
— У вас все?
— А вам мало?
— Достаточно. Можете идти работать.
— Сейчас пойду. Только хочу все-таки узнать, какие меры вы собираетесь принять против этого боголюба. Неужто и это ему с рук сойдет?
— Идите занимайтесь своими делами. И если сумеете, поменьше рассказывайте об этой истории.
— Это просьба или приказ? — хмуро уточнил Суворов.
— Просьба.
— Ну, коли просьба, то куда ни шло. Могу и помолчать. Я не зверь какой-нибудь, как некоторые думают. Могу и помолчать.
На этом беседа закончилась.
Через пятнадцать минут, предварительно позвонив и договорившись о встрече, я вошел в кабинет заведующего отделом культуры.
Вениамин Иванович Бухарев стоял около окна, заложив руки за спину, и разглядывал октябрьский пейзаж — замерзшую уже реку, поблескивающую льдом, а на той стороне ее — пустые снежные сопки. Когда он повернулся на стук двери, его темное, в отметинах оспин лицо было странно печальным.
— Хорошая погода, — заговорил Бухарев вместо приветствия. — Сейчас самая охота, снежок мелкий, собаки идут, не тонут. А тут сидишь, как лисица в клетке. Кабинетным человеком стал, — вдруг пожаловался он.
— Не вы один, — понял я настроение Бухарева.
Не отвечая, он некоторое время расхаживал вдоль своего длинного стола мягкой, неслышной походкой.