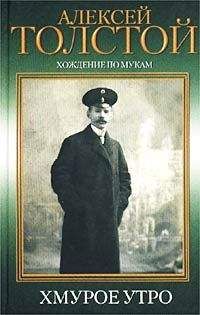просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом, покуда не лишат его наконец когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса: ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов, и народ, о котором вы ничего не хотите знать… Мы здесь даже и не критикуем вас по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды — человеческой фантазии. Нет. Мы говорим: спасайтесь, покуда не поздно. Ибо ваши идеи и ваши сокровища будут без сожаления выброшены в мусорный ящик истории…
Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное было иное, о чем эти люди не говорили…
За зеленым столом в это время появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, и, спрятав под стол руки, выпрямился, в очень узком черном сюртуке: худое матовое лицо, брови дугами, под ними, в тенях, — огромные серые глаза, и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала.
Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто снившимся ей в ветреные петербургские ночи.
Вот он, наклонив ухо к соседу, усмехнулся, и улыбка — простоватая, но в вырезах тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее.
В это время докладчик Вельяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину:
— Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды.
Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы знаем, высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. «Жажду» — вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли божественной влаги. Берегитесь, — Вельяминов поднял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей, — в раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить человека в живой механизм, в номер такой-то, — человека в номер, — в этом страшном раю грозит новая революция, самая страшная изо всех революций — революция Духа.
Акундин холодно проговорил с места:
— Человека в номер — это тоже идеализм.
Вельяминов развел, над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, куда отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали.
Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель, Чернобылин, ел рыбу с брусникой и поминутно оглядывался злыми пьяными глазами на проходящих. Две, средних лет, литературные дамы, с грязными шеями и большими бантами в волосах, жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнуто растрепанными волосами — Чирва — критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вельяминов; одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рукав. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклонением головы.

Девушка в черном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза.
Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый истощенный юноша, в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные длинные черные глаза засматривали с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал:
— Вот? Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна?
— То же, что и вы, — ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла о платок.
Он захихикал, глядя еще нежнее:
— Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня, как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться. Но самая сущность его мысли — разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет. Вот:
Каждый молод, молод, молод.
В животе чертовский голод,
Будем лопать пустоту…
Необыкновенно, ново и смело, Дарья Дмитриевна, разве вы сами не чувствуете, — новое, новое прет! Наше, новое, жадное, смелое. Вот тоже и Акундин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди! Еще две, три таких зимы, — и все затрещит, полезет по швам, — очень хорошо!
Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь. Даша чувствовала, как все в нем дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она не дослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке.
Сердитый швейцар с медалями, таская вороха шуб и калош, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго, в ноги дуло из пустых с махающими дверями сеней, где стояли рослые, в синих мокрых кафтанах, извозчики и весело и нагло предлагали выходящим:
— Вот на резвой, ваше сясь!
— Вот по пути, на Пески!
Вдруг за Дашиной спиной голос Бессонова проговорил раздельно и холодно:
— Швейцар, шубу, шапку и трость.
Даша почувствовала, как легонькие иголочки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула Бессонову в глаза. Он встретил ее взгляд спокойно, как должное, но затем веки его дрогнули, в серых глазах появилась живая влага, они словно подались, и Даша почувствовала, как у нее затрепетало сердце.
— Если не ошибаюсь, — проговорил он, наклоняясь к ней, — мы встречались у вашей сестры?
Даша сейчас же ответила дерзко:
— Да. Встречались.
Выдернула у швейцара шубу и побежала к парадным дверям. На улице мокрый и студеный ветер подхватил ее платье, обдал ржавыми каплями. Даша до глаз закуталась в меховой воротник. Кто-то,