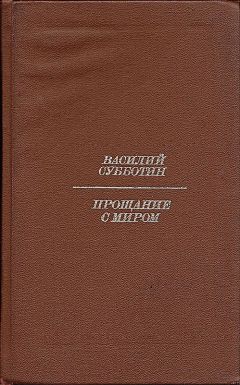На стене нашей школы, в самом классе нашем, внутри, высоко под потолком, протянутый через всю стену, висел лозунг, тоже такое же красное полотнище, на котором было крупно написано: «Мир хижинам, война дворцам!» Но я почему-то вижу этот лозунг со двора — гак осталось в памяти, — через окно. Заглядываю через подоконник в это окно со двора. Во время перемены, должно быть…
В те дни, начав учиться, мы, помнится мне, как-то особенно яростно резались в бабки. Игра эта поглощала все наше время. Играли и на перемене и после уроков играли. Бабки эти были не что иное, как бараньи косточки, суставчики такие белые, иногда еще и покрашенные, цветные. Строй или, как еще говорили, кон бабок выстраивали во дворе, подле забора где-нибудь, на поляне на той же. Каждый из играющих выставлял, как правило, по одной бабке. Большая бабка, которой разбивали коп, именовалась панком. Каждый игрок должен был играть своим панком. Панок этот чаще всего заливали свинцом, и он был очень тяжелым. Хороший панок ценился очень дорого, за него давали двадцать, а то даже и тридцать бабок. Хорошим панком можно было ударить так, что весь кон взлетал на воздух. Все зависело от удара, от собственной меткости. Были у нас большие мастера этого дела.
Бабки и покупали и обменивали. Шесть бабок, насколько я помню, стоили одну копейку. У тех из нас, кому в игре везло больше, кто умел хорошо играть, собирались мешки этих бабок. А те, кто играть не умел и кому не везло, те выискивали все, какие только есть, способы, чтобы заработать копейку-другую, купить на них бабок и поиграть.
Странный у меня был отец! Однажды, когда он приехал на мельницу, а заодно и привез мне кой- какой еды, поглядев на то, как мы играем, оставил мне десять копеек на бабки.
Я их, должно быть, в тот же день проиграл, но мои друзья долго еще вспоминали об этом, завидовали мне, рассказывая друг другу, как отец оставил мне гривенник на бабки. Никто из них этого понять не мог, да я и сам не понимал, как это случилось. Обычно отец деньгами не разбрасывался, а тут вдруг взял и оставил мне целых десять копеек на бабки.
Здесь, в этом Ядрышкине, где мы учились, ближе к болоту, через которое мы ходили, была паровая мельница, которая в прежние времена, как ни странно это, была, как нам говорили, суконной фабрикой. И действительно, в отвалах, которые были недалеко от этой мельницы и от школы, на берегу заросшего тростником озера, то и дело находили мы кусочки красного и синего цветного сукна… Здесь, в отвалах, в рыхлой, перемешанной с золой и спекшимся углем земле, постоянно копались мы после уроков, искали тут всякого рода железо, болты и гайки ржавые, любой другой металлический лом и все это тащили на склад утильсырья, находившийся тут же, в одном из крыльев мельницы. Тогда все принимали, и тряпье, и стекло, и кастрюли старые, медные и, конечно, железо, железо в первую очередь. Стране был нужен металл, и мы, как все, его собирали. Вся страна собирала его, этот утиль. В тех же отвалах можно было найти и крупные кости, старые, случайно оказавшиеся здесь. Их тоже собирали и тоже сдавали на том же складе утильсырья, и они даже ценились дороже, чем железо. Не знаю уж, на что они годились, эти кости…
Сразу после уроков мы отправлялись к этим отвалам и все, что находили в них, тащили туда, к складу этому. В самом здании мельницы, как видно, была кочегарка, потому что наружу, из стены, был выведен довольно широкий железный желоб, по которому лилась горячая, отдающая ржавчиной вода.
Каждое утро мы бегали сюда умываться.
Возле мельницы всегда стояли подводы. Со всей округи сюда приезжали молоть зерно.
В то же, я думаю, время, в соседнем поселке, в Пенькове, видел я в первый раз кино. Показывали его в чьей-то избе, при завешенных одеялами окнах. Изба была до отказу забита людьми, желающими смотреть фильм, пришедшими не из одного Пенькова, наверно, и не; из одной Березовки. Мы, те, кто поменьше, сидели на полу, в ногах у взрослых, и задирали головы вверх. Экран, висящий на глухой бревенчатой стене, был у пас перед самым носом.
Я даже помню то, что нам показывали. Как видно, это был фильм о 1905 годе, о 9 января, о расстреле рабочих, идущих к Зимнему дворцу, к царю. Мы сидели в темноте и, не отрываясь, смотрели на экран, который только за минуту до этого был белым полотнищем, и вдруг все задвигалось и, без слов еще пока, без звука пока еще, заговорили люди.
Я не все помню, помню только, что в фильме был показан поп Гапон, тот, что вел людей к Зимнему дворцу. Больше всего запомнилось, как потом, через какое-то время, рабочие, разыскав скрывающегося после 9 января Гапона, душили его… Мне кажется, что я до сих пор помню испуганный взгляд этого человека.
Не знаю, что это была за картина.
Я и потом смотрел еще какие-то фильмы. Нас, ребят, пускали бесплатно. Мы должны были по очереди крутить ручку дающей свет динамо-машины. Каждый крутил свою часть. Одну часть покрутишь — и можешь смотреть все остальные. Это было для нас хотя и трудное, но привычное дело.
Летом, в следующем году уже, то распадавшийся, то создаваемый вновь колхоз наш окончательно уже на этот раз организовался, я увидел одного человека, должно быть, уполномоченного из района или, как еще говорили у нас в те дни — партийца. Он стоял перед столом, поставленным прямо на землю, тут, возле избы, которая была у нас к тому времени выстроена на другой стороне улицы и отведена под правление колхоза. Единственная постройка, которая была у нас на той стороне. Он стоял перед поставленным перед окнами избы столом и, как видно, говорил речь. Рукава рубашки у него были закатаны. Рубашка на нем была белая, гладкая, с отложным, как мне кажется, воротом и заправлена была в штаны, перетянутые желтым и узким ремнем. Руки он держал в карманах. Человек этот произвел на меня очень большое впечатление. Я впервые увидел одетого таким образом человека. Мужики в деревне у нас носили в те годы длинные, навыпуск, рубахи, чаще всего кубового, тускло-синего цвета, подпоясанные в лучшем случае веревочкой или пояском таким белым. Белой рубахи я до того времени никогда не видел. А тут еще этот ремень желтый, кожаный, поверх штанов надетый, и заправленная в штаны рубаха!
Я долго потом вспоминал этого человека, он казался мне выходцем из какого-то другого, незнакомого мне мира. Да так это, наверно, и было…
Я пришел домой и тут же заправил рубаху таким же образом, хотя ремешка у меня не было, да и белой рубахи тоже. Рубаха на мне была домотканая, холщовая. И конечно, я был босым. Но мне казалось, что я очень похож на приезжавшего и говорившего речь уполномоченного.
Сейчас уже не помню где, но где-то не очень далеко от нас, от Большой деревни и от Березовки, в стороне от дорог, в те же самые годы, я думаю, организовалась коммуна. И в ней, в этой коммуне, жил переехавший туда из Большой деревни наш дядя Миша, у которого там, в Большой деревне, своей земли тоже не было. У него была швейная машина, и он шил всякую одежду. Дядя Миша был мастеровой…
Коммуна эта, я теперь забыл ее название, начинала свою жизнь тоже на чистом месте, тоже в лесу, среди берез и сосен, на выселках, как у нас говорили. Мужики, выселившиеся сюда из Большой деревни и других близлежащих деревень, коммунары, как они себя называли, сами расчищали, распахивали и засевали раскорчеванную своими руками землю. Старший сын дяди Миши при всей его молодости, ему тогда и двадцати лет не било, был, как я понимаю, одним из главных организаторов этой коммуны. Он-то на несколько дней и привез меня туда, в эту только что образованную коммуну. Ездил, как видно, на станцию но каким-то своим делам, заехал к нам и увез меня, и я впервые увидел всю эту жизнь, построенную на совершенно новых для всех нас началах.
Я помню, что это было в начале весны… Вместе со всеми я, гость, приехав сюда, ходил в столовую, сидел за общим столом, и мне, как гостю, наложили полную миску горячей каши. Вся жизнь тут была общая, коллективная. Даже и на работу выходили вместе, в одно и то же время. Надо ли говорить, как все это было ново и удивительно для меня, мало что видевшего до того времени. И вот тут, в этом только что срубленном бараке, где они все, всей семьей жили, и дядя Миша наш, и жена дяди Миши, тетка моя, и их сыновья, я впервые услышал радио. Это было на другой день, утром, когда я только что проснулся. Мне дали в руки наушники — два черных эбонитовых кружочка, соединенных между собой железной дужкой, и я, как меня научили, надев их через голову, приладив их к ушам своим, услышал хотя и не очень громкие, но достаточно внятно произносимые слова. Мне сказали, что это Москва говорит.
Первый раз я надел наушники и первый раз услышал радио. Речь, как я уже сказал, была хотя и негромкая, но довольно внятная, разборчивая… Наушники эти включались прямо в стену— в розетку, в степе вделанную. Так что радио в полном смысле слова вошло в дом. Стоило воткнуть штепсель в розетку и надеть наушники на голову, чтобы услышать здесь, в лесу, в этом бараке, передачу из самой Москвы…