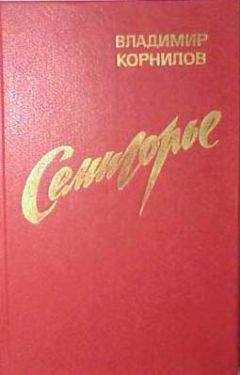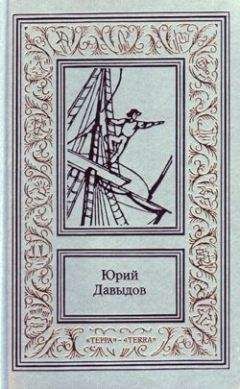Сколько раз в своей жизни Иван Петрович слышал такие вот, как будто ни к чему не обязывающие слова: «Мнения совпали», «Думаем поручить вам». Но слова эти, сказанные тихим голосом в тихом кабинете, в считанные дни срывали его с места, судьба делала очередной крутой виток, и всё начиналось сначала: растерянность жены, горящие ожиданием новизны глаза Алёшки, поспешные сборы, дорога, новые места, новые люди и работа, работа, работа. Год-два и — снова тихо и буднично сказанные слова: «Решили поручить вам…»
Степанов поднялся, подошёл к звонившему телефону, взял трубку, сказал кому-то: «Через двадцать минут…»
Медленным шагом он прошёл до половины кабинета, в сосредоточенной задумчивости остановился перед неподвижно сидящим Иваном Петровичем.
— Леспромхозом интересовался товарищ Сталин, — сказал он. Прямой взгляд его как будто хотел проникнуть за черту видимого. Иван Петрович ничем не прожил своих чувств. Степанов ждал. Иван Петрович понимал, что молчать так долго неприлично, но, расстроенный неподвластным ему поворотом дела, не мог подыскать аргументов в свою защиту. Крепко сцепив пальцы рук, наклонив голову, чтоб уйти от читающих его глаз Степанова, чувствуя, что голос его сейчас задрожит, он сказал:
— Я не хотел бы менять работу. Техникум меня устраивает.
— Устраивает вас… — неожиданно резко, с недобрым нажимом на слове «вас», сказал Степанов. Голос его прозвучал с чуждым ему металлическим отзвуком, и Иван Петрович вдруг до холодка в сердце почувствовал власть, стоящую за плечами этого человека. Но именно это возможное сейчас насилие над его желанием вызвало чувство слепого протеста. Теперь уже упорствуя перед властью этого человека, Иван Петрович сказал:
— Да, товарищ Степанов, меня. Я начал дело и хочу, имею право его завершить…
Степанов ходил по кабинету, мимо звонивших телефонов. Когда он близко подходил и молча и круто поворачивался, Иван Петрович, настороженно следивший за ним, видел отчётливо проступивший над его надбровьем шрам. Раньше он не замечал этой, наверное, боевой меты и, видя её, догадывался, чего стоило Степанову его молчание. Наконец Степанов остановился, удобнее повернул стул, сел напротив Ивана Петровича.
— Прошу извинить мою резкость, — сказал он с прежней примиряющей хрипотцой в голосе. — Я, кажется, не до конца понимал вас. Но и вы себя плохо знаете, Иван Петрович! — Он наклонился, рукой доверительно коснулся его колена. — Сила ума сильнее силы характера, попомните мои слова! Обязывать вас мы не будем. На «Северный» человек поставлен. Правда, перспектива не по его плечам, но пока тянет. Поразмышляйте, как остынете. Дорога у вас дальняя. И мы народ терпеливый — когда позволяет время…
Прощаясь, Арсений Георгиевич задержал в своей руке отмякшую руку Ивана Петровича, вдруг спросил с пробившимся в лице оживлением:
— Как ваш Алёша? Определился в своих душевных поисках? Или всё ещё между долгом и желаниями?..
— Определяется… — сказал Иван Петрович, стараясь не углубляться в то, что знал нетвёрдо. Ему было приятно, что его сын остался в памяти Арсения Георгиевича, и в то же время, закрывая за собой тяжёлую дверь, он подумал, что можно отнести и к нему самому то, что он сказал о сыне.
… Выехали они с Василием Ивановичем из города на следующий день, и не рано. Затуманенное морозом солнце стояло над лесом. Холодные поля малиново отсвечивали на буграх, сверкал иней по обеим сторонам дороги и в воздухе. Майка бежала напористо. От её ровного бега, тишины и холодного сверкания на душе было радостно и чисто. Благодарное чувство, которое Иван Петрович испытал к Арсению Георгиевичу, смешивалось с чувством самолюбивой удовлетворённости тем, что он всё-таки выстоял перед властным его напором. Дома ему не придётся собирать вещи и виновато смотреть в растерянное лицо Елены Васильевны. Сознание того, что он остаётся на полюбившемся ему месте, радовало его какой-то уютной детской радостью. Правда, мечты его о свободном времени и тихих вечерах на речке так и остались мечтами — за два года ему так и не вышло посидеть над удочками рядом с Алёшкой, но это — пока, пока он в горячке строительства и в суете организационных дел. Потом, когда всё наладится, он сможет и счастливо поволноваться над поплавком, и поговорить с Алёшкой о серьёзных проблемах жизни. И Елене Васильевне уделить недостающее ей внимание. Раз он остаётся на месте, он обязательно всё осуществит…
Высвободив из овчинного тулупа лицо, пониже на брови надвинув шапку, чтобы морозный ветер от быстрого движения не слишком холодил лоб, Иван Петрович с удовольствием смотрел на открытые искрящиеся поля и, по привычке обдумывать прошедший день, перебирал в памяти детали своего разговора со Степановым. О Стулове он не думал, как не думают о неприятном врачебном кабинете после того, как больной зуб вылечен. Мысли Ивана Петровича занимал Степанов. И, пожалуй, больше всего и с запоздалым интересом он размышлял о настойчивом его стремлении выдвинуть на руководство новым леспромхозом именно его, Ивана Петровича Полянина. Он не сомневался в том, что Степанов не лукавил, обосновывая интересами дела своё намерение. И всё-таки во всём этом — Иван Петрович особенно чувствовал это сейчас — было что-то, что заботило Степанова не только как умного хозяина. «Зачем он сказал о Сталине? — думал Иван Петрович. — Только ли проверить живучесть моего тщеславия? Вряд ли. Всего вернее — за этими словами стоит собственное его беспокойство. Если леспромхоз на виду в верхах, он в какой-то мере становится лицом области! Не думал, что Степанова может заботить эта сторона дела.
А проводил он меня умно. Завязал на дорогу узелок: «Сила ума сильнее силы характера!» Развязывай-ка теперь, Иван Петрович!.. Да, пол миллиончика кубов на один леспромхоз — шаг, надо сказать, сажений!.. Наверное, и техники подбросят. Этакий замах руками да лошадками не возьмёшь! Пару бы толковых, энергичных инженеров-эксплуатационников, лучше даже из молодых, — одного на заготовку, другого на вывозку. Были у меня толковые ребята. Можно бы списаться через наркомат… Да что это я? В самолёт не сел, а лечу! Это Алёшке рваться в облака. А с меня достаточно. Дело избрано, возврата не будет…»
Василий Иванович слегка придерживал горячившуюся Майку, хотя дорога была ровная, без раскатов, и санки легки.
«Жалеет лошадь, — думал Иван Петрович, с непривычным для него участием наблюдая лицо конюха, обветренное до синевы на скулах. — Вот делает же человек своё малое дело! Заботливо делает, хорошо. И пользу людям приносит. И достоинство не теряет. А ведь если бы не он, я, пожалуй, и не дошёл бы до Степанова. И ехал бы сейчас в этом белом безмолвии с колючей изморозью на душе…»
— Василий Иванович, а совет-то ваш помог, — сказал он в приливе добрых к конюху чувств. — Товарищ Степанов защитил Семигорье!..
— Как иначе! — рассудительно ответил Василий, переводя Майку на шаг. — Ведь дело людей касается!.. Я на своих детишков гляжу — без света им никак! Бывало, кто тетрадь, кто книжку, да всё разом на стол вытащат, соберутся вокруг одной лампы, как цыплята возле клухи, — и не шевелись!
Локоток к локотку, голова к голове — Иван, Нюра, Никола, Валька. Зимний-то день — не день: повернулся туда-сюда, он и отсветил! Теперь электричество с потолка на любой край. Рассядутся по столу, как на поле. У иного от старательности чернила на губах, а глядятся все важными — не дай бог отвлечь! Мы уж с Марусей не говорим, шепочемся. Пристукнешь чем, сам себя за руку ловишь…
«Вдову с пятерыми ребятишками взял! И как будто того искал, — думал Иван Петрович, слушая Василия. — Сумел бы я так?..»
Разговор о доме, видно, согрел Василия Ивановича, по щекам разошлась краснота, он высвободил руку из рукавицы, у сунул от подбородка в ворот шарф.
— За всё это Ивану Митрофановичу спасибо, — сказал он. — И вам — особо.
— Мне-то за что? — Иван Петрович даже с некоторым раздражением отвёл благодарность конюха, хотя слова и рассказ о детишках тронули его.
— Есть за что, — с твёрдостью убеждённого человека сказал Василий. — Ответ держать не каждый умеет. Нам всё ведомо, Иван Петрович. Ведь это Дора райкомовская беспокойство создала. Семигорская, а, поди ты, не разобралась! С Ивана Митрофановича три допроса сняла. Ходили к ней, просили: «Отступись, Дарья…» Куда там! Не от разума власть её оковала…
«Так вот чьё письмо у Стулова! — догадался теперь Иван Петрович. — Дора Павловна Кобликова! Ну, у этой только два цвета: чёрный и белый, как у зимы…» Он вдруг успокоился совершенно, а вслух сказал:
— Страшна не жалоба, Василий Иванович. Страшно, когда на жизнь смотрят через жалобу…
— О том и я, — сказал Василий. Он чуть натянул вожжи, и Майка, вздёрнув голову, пошла напористой рысью.
Плыли назад по обочинам синие тени и слепящие полосы освещённого солнцем снега. Лес то смыкался над дорогой высокими засугробленными воротами, то расступался и светил полянами, открытым небом. Это быстрое движение по лесу, яркий морозный день, дорога, ведущая к дому, настроили Ивана Петровича на редкую для него мечтательность. Он на время ушёл от забот, отдался движению и душевному покою.