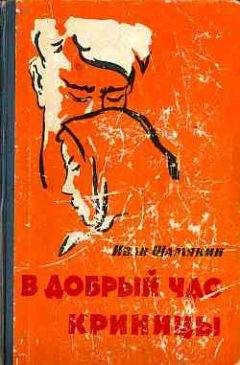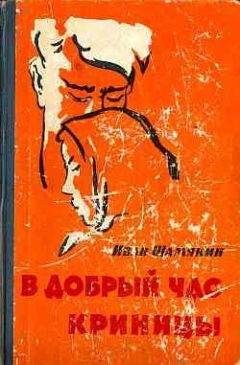Она сбежала с насыпи и быстро пошла по тропке навстречу огням и музыке.
Он стоял на дороге и смотрел, как отдалялась её фигурка, освещенная луной, и, когда она скрылась совсем, горько усмехнулся: «Вот и все, Максим Антонович. Еще одна оплеуха судьбы… Ну ничего, переживем и это… Что там у меня ещё? Ах, гости! Ну что ж, брат, пойдем к гостям… Пойдем и напьемся с горя».
Гости и в самом деле ждали хозяина, и взволнованная мать встретила его упреком. У нее давно уже было все готово и поставлено на столы, залитые светом двух стосвечовых лампочек.
В ответ на её попрек Максим ласково обнял мать:
— Ничего, мама. Все хорошо… Все хорошо, мама. Она удивилась, что он такой ласковый и смирный.
Он извинился перед гостями, пошутил и сразу начал разливать водку. И никто ничего не заметил.
Только Ирина Аркадьевна вздохнула, Игнат Андреевич взглянул на жену и нахмурил свои лохматые брови.
— Ну, первый тост полагается провозгласить старшему из нас, — предложил Макушенка.
— Николай Леонович? Нет, Игнат Андреевич. Ладынин поднял руку, требуя внимания.
— Нет, товарищи. Старшая среди нас Сынклета Лукинична.
Она смутилась, попробовала отказаться, но, когда убедилась, что все настойчиво требуют, чтобы именно она сказала первое слово, поднялась и перешла с края, где примостилась было, на середину стола, остановилась рядом с сыном. Подняла чарку, легко вздохнула, вытерла уголком платка губы.
— Выпьем, гости дорогие, за свет. За этот вот свет, — она показала на лампочку. — Чтобы всем нам так светло жилось…
Гости захлопали, осушили чарки.
Провозгласили ещё несколько тостов. Выпили.
Но никто не пьянел, и беседа не становилась беспорядочной, как это иногда бывает, когда после трех-четырех рюмок праздничный стол превращается в улей — каждый гудит о своем. Здесь же, о чем бы ни зашла речь, в беседе принимали участие все. Говорили спокойно, обдуманно, по-хозяйски, о будущем урожае и об использовании электроэнер гии, о знакомых людях и о жизни вообще, о мире и о детях — обо всем, что волновало их в тот день.
Хорошо, душевно текла беседа людей, ежедневно встречавшихся на работе, но редко — за столом, в минуты отдыха от многочисленных забот. От серьезных разговоров переходили на шутки. Белов очень интересно и с юмором вспоминал молодые годы, женитьбу, с гордостью рассказывал о своих детях. Должно быть, один только Максим не принимал участия в беседе. Правда, сначала он старался быть веселым, шутилподливал в рюмки, настойчиво уговаривал выпить. Но, выпив первые чарки, гости пили мало, сдержанно, только из вежливости пригубливали и ставили обратно на стол. И продолжали беседу. Немного опьянев, Максим понурился, умолк и, подперев кулаками щеки, молча слушал, хотя и не все слышал, многое пролетало мимо его ушей. Желание напиться исчезло, водка показалась противной. Им овладело какое-то безразличие, усталость, хотелось скорее остаться одному, лечь и уснуть — он в последние дни мало спал, вставал с петухами.
Теперь многие заметили, что он не похож на себя, что у него чем-то испорчено настроение. Но только Ладынины да мать догадывались, в чем дело.
Василь долго и внимательно следил за ним, потом вдруг поднялся, налил рюмки.
— А хозяева, пожалуй, вправе на нас обидеться, — весело начал он, кивнув на бутылки. — Сколько стоит нетронутого. Давайте же докажем, как надлежит хорошим гостям, что мы ценим их радушие… Я хочу выпить за нашу дружбу… За мою дружбу с Лесковцом… Максим Антонович?
Максим встал, но какое-то мгновение не поднимал глаз, как бы раздумывая, стоит ему выпить или нет. Все притихли, насторожились. Вдруг Максим поднял голову, приветливо и как-то виновато улыбнулся и пошел к Василю, на другой конец стола. Они чокнулись, выпили и, обнявшись, поцеловались.
— Вот за такую дружбу и я выпью, — весело сказал Ладынин, поднимая чарку. — В добрый час!
Стал затихать шум турбины гидростанции. Погасли лампочки. Но было уже светло. Начинался новый день.
Минск 1949–1954.