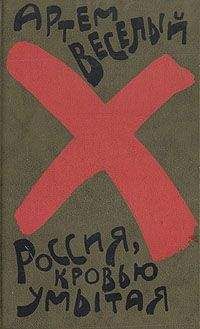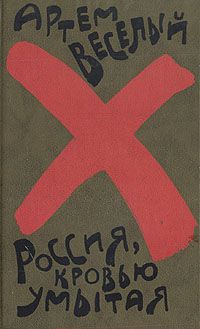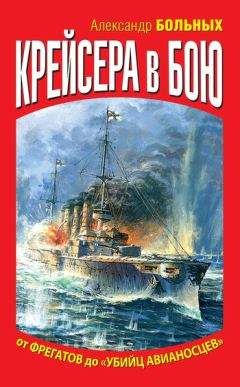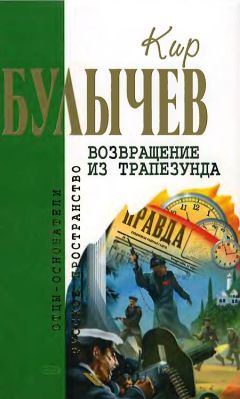На собрании выбирали совет.
— Савела Зеленова пиши.
— Нет, у меня домашность, — отбивался Савел.
— У всех домашность, просим.
— Коего лешева? Вали, вали…
— Согласу моего нет.
— Не жмись, кум, надо.
Утакали Зеленова.
— Лупана пиши.
Лупан дурачком прикидывался:
— Перекрестись, какой из меня советчик?… Считать до десятку умею…
— Эка выворотил бесстыжу рожу!..
— Вали, вали, просим.
— По-хорошему надо, старики.
— Пришей кобыле хвост… Лень-то, матушка, допрежде нас родилась…
— Единогласно, пиши, его, дьявола.
И так бились с каждым.
Расходились с собрания, бережно подставляя вопросы Таньку-Проньку:
— Прокофий Трофимович, про свободну торговлю в городе ничего хорошего не слыхать?
— Не соля живем, мука.
— Оно какое дело?.. Пустое дело — гвоздь, а нету гвоздя, садись и плачь.
— Проша, говорил ты вроде притчей: «Ждет нас мировая коммуна». Невдомек, к чему это слово сказано? Не насчет ли отборки хлеба?
— Почему нет советской власти за границей? Али они дурее нас?
Пронька на все вопросы отвечал, как умел.
Наказание Евдохе с сыном, от работы отбился. Спозаранок уходил он в комитет бедноты и дябел там до ночи. А когда выберет вечерок свободный, мать просвещать начнет. Черствая старуха, разные премудрости туго в голову лезли.
— Дурак, наговорил, наговорил, ровно киселя наварил, а есть нечего.
— Плохо вникаешь, мамаша.
— У людей то, у людей сё, а у нас с тобой, чадушко, ничевошеньки. Нынче муки на затевку заняла.
— Ерунда, — говаривал Пронька свое любимое словечко.
— Типун под язык, пес ты лохматый… Последнюю корову со двора сведут, тогда и засвищем во все дыры.
Ночами Евдоха жарко молилась:
— Мати пречистая, вразуми окаянного…
Или подсядет, бывало, на краешек сыновней постели, да и начнет в фартук сморкаться…
— Сынок, образумься… Брось ты революцией заниматься, в года уж вышел, жениться пора, хозяйство хизнуло, кузница тебя ждет… Обо мне, старой, подумай.
— Ерунда, — только и скажет сынок Пронюшка.
Корову свою Пронька назвал Тамарой.
Хомутовская волость второй день рядила ямщика.
Старик Кулаев гонял ямщину лет тридцать из году в год. Выставит, бывало, старикам монопольки лошадиную порцию и — вожжи в руки. В советское время расходу — окромя как писарю сунуть — не требовалось расходу, но и цену подходящую не давали: смета, приказ, порядки, ни на что не похоже.
Облупленным вишневым кнутиком стегал себя старик по смушковым валенкам и, играя белками желтых волчьих глаз, хрипел:
— Ращету нет, пра, ей-богу, ращету нет… Тянусь, будто дело заведено, поперек обычая не хочу лезть… Нынче ковка одна чего стоит? Чудаки, прости господи, ей-бо… Дело заведено.
Старика за полы заплатанной суконной поддевки тащили сыновья: Ониска и большак Савёл, оба солдаты действительной службы.
— Аида, тятя, айда… Чего тут гавкать?.. Не хочут, не надо.
Тот еще раз оборачивался из дверей и скалил зубы:
— Дуросветы, едри вашу мать, управители… Корма ныне чего? Ковка? Дело заведено…
Сыновья уводили отца.
Смета отдела управления и наполовину не покрывала того, что загнул Кулаев… Набивался ямщить Прошка Мордовин, да дело-то не дудело — обзаведенье у него было никудышнее и лошаденки немудрящие, а тракт большой — не выгнать Прошке… А Кулаев возьмется, так возьмется, ни от слова, ни от дела не отступится: справа богатая, ездовых лошадей косяк — старинный завод.
Гнали за ним десятника.
Приходил старик в черной злой усмешке, обеими руками стаскивал пудовую шапку, которую носил круглый год; расправлял масленый, в кружок подрубленный волос и спрашивал:
— Удумали?
Писарь пододвигал чернильницу, нацеливаясь строчить договор. Председатель долбил согнутым пальцем папку с надписью: «Целькуляры и приказы свыше» и густо вздыхал:
— Скости, Фокич… Смета, ее, каким боком ни поверни, она все смета… А овса общественного десять мешков тебе наскребем.
Советчики:
— Скости.
— Говори делом.
— Чего ты ломаешься, ровно пряник копеешный? Другой день тебя охаживаем.
— Ровно за язык повешены.
— Смета… Должен ты уважить.
— Овса тебе наскребем, ешь и пачкайся…
Кулаев заряжал понюшкой оплывший, прозеленевший от табака нос и трясся в чихе:
— Не могу… Хоть голову мне рубите на пороге, не могу!
Слово за слово, словом по слову, кнутом по столу.
— Не ращет, мужики… Гону много… Все бьется, ломатся… Ни к чему приступу нет… Нынче одна ковка звякнет в копеечку.
В сенях загремело пустое ведро, сторож-беженец Франц крикнул в дверь:
— Едет… Бешеный едет!
Кто сидел — вскочили. Встал и председатель совета Курбатов, но, спохватившись, сел и, колотя звонком по столу, сказал:
— Прошу соблюдать… Чего вскочили?.. Всецело прошу садиться… Едет, так мимо не проедет, чай не царь.
— Царь не царь, а полцаря есть.
Потянулись к отпотевшим одинарным окнам.
К совету с форсом и ямщицкой удалью подлетела пара взмыленных лошаденок. Из возка, обитого малиновым ковриком, вылез завернутый в оленью доху комиссар Ванякин. И еще увидели из окон мужики — улицей проскакали верховые солдаты ванякинского продотряда.
…За зиму Алексей Савельич Ванякин научился не только телефоном орудовать или пересказывать декреты на самом простом обывательском языке, но кое-чему и другому. И еще он, старый пьяница, переломил себя — пить бросил. На исполкомовской работе тошно показалось, и он кинулся в деревню собирать мужицкий хлеб. Никто не видал, когда он спит, ест. Прискачет — ночь-полночь — и прямо к ямщику: «Закладывай!» — «Куда на ночь глядя, окстись, товарищ, — взмолится ямщик, — лошади заморены, а на кнуте далеко не уедешь». — «Запрягай!» — «Хоть обогрейся, товарищ, бабы вон картошки с салом нажарят, а утром бог даст…» — «Давай запрягай, живо!»
Переобуется, подтянет пояса потуже и поскачет в ночь.
Святками в Старом Буяне он отмочил такую штуку, что весь тракт ахнул. Буянский ямщик Иван-бегом-богатый в волостной съезжей рассказывал:
— Оно какое дело, гуляли мы у свата Тимофея на свадьбе. Пир у нас колесом. Пьем-поем и в чушечку не дуем. Глядь, прибегает моя старуха с возгласом: «Приехал, принес его налетный». — «Кто такой, кого нелегкая принесла?..» — «Бешеный комиссар приехал, лошадей зычет». — «Отвороти ему дурную рожу, — кричу я из-за переднего стола, — большой запой справляем, а он лошадей… Пусть до завтра ждет…» Ушла моя старуха с отказом. Много ли, мало ли времени прошло, глядь-поглядь — скачет комиссар мимо окошек на моей же паре, и тулуп нараспашку. Заходит к свату Тимофею в избу: «Который тут ямщик?» — «Я ямщик», кричу. Не успел я и глазом моргнуть, сгреб он меня да за дверь. Иду по двору, плачу, через два шага в третий спотыкаюсь, а он мне обнаженным наганом и тычет под ребра. «Садись, говорит, экстренно на козлы, держи вожжи». Крик, шум, выбегают за ворота мои сроднички с кольями, с вилами, а он из нагана-то как пальнет, пальнет, лошади-то как хватят и понесли, и понесли… Да-а, пошутил: не чаял я от него и живым вырваться.
После этого случая ни один ямщик не отваживался перечить и ночь-полночь мчал беспокойного седока, не радуясь и чаевым, на которые тот не скупился. К богатым мужикам Ванякин был особенно немилостив. Деревня боялась его как огня, и не было дороги, где бы его не собирались решить, из оврагов не раз вослед ему летели пули, но он только посмеивался и отплевывался подсолнухами: семечки грыз и во время речей, и на заседаниях, и на улице, и в дороге, невзирая ни на мороз, ни на ветер. За крутой характер, за семечки и любовь к быстрой езде деревня окрестила его «Бешеным комиссаром»…
Комиссар крепко хлопнул дверью и от порога поздоровался:
— Мир честной компании.
— Поди-ка, добро жаловать.
Ванякин прошел вперед, бросил на стол объемистый брезентовый портфель, содержимое которого было весьма разнообразно: истертые до ветхости инструкции губпродкома, старые газеты, яичная скорлупа, обвалявшийся кусок сала, рассыпанная махорка.
— Заседаете?
— Заседаем, Лексей Савельич, заседаем… Жизни не рад будешь от этих самых заседаний.
Курбатов разгладил по столу смету с оборванными на раскурку краями и сердито посмотрел на всех:
— Домашний вопрос мусолим. С ямщиком вот маята, никак не урядим.
Загалдели:
— Смешки да хахоньки… Ровно в бирюльки играем…
— Дом ждет.
— Овес, а где его взять, спрашивается?.. Ныне его, овес-то, жаром весь покрутило.
— Ты бы нам, товарищ, резолюцию какую похлеще влепил… Пра!
Председатель покосился на Ванякина, обиравшего с оттаявшей бороды подсолнечную шелуху, и строго зашипел: