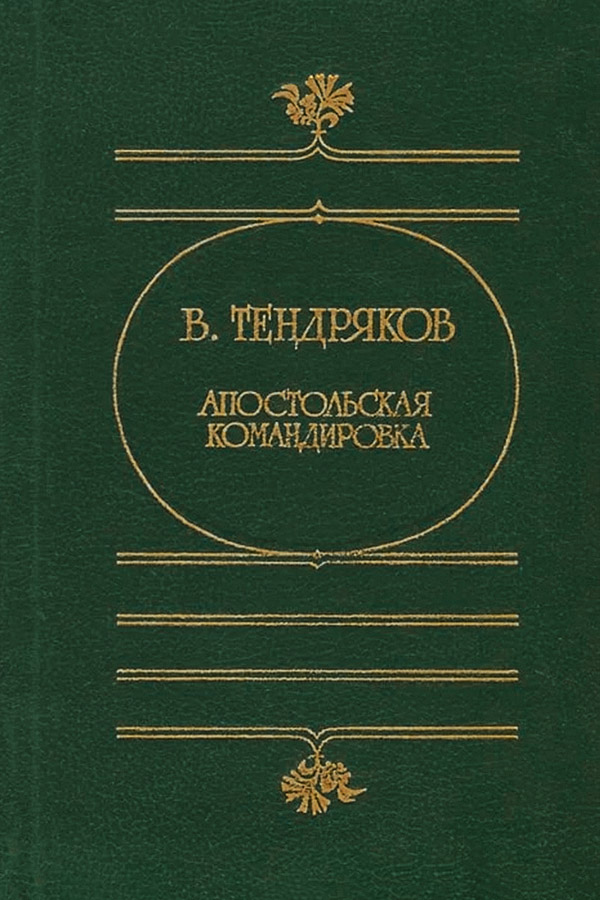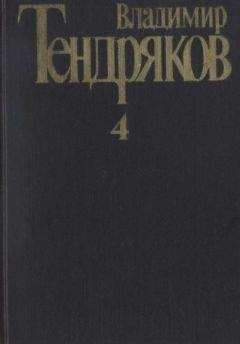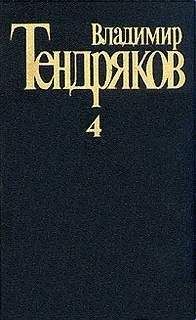Клялись в любви своей.
И бегает с воплями ребятня. И то там, то тут вспышками, затяжным раскатцем — кочующий смех.
Идя от почты, я заблудился в этой праздничности. Во всей Красноглинке, наверное, только мне одному не до веселья. Письмо брошено, железный ящик с лязгом проглотил его…
И были три свидетеля:
Река голубоглазая,
Березонька пушистая
Да звонкий соловей.
Прямо посреди дороги, осиянный закатом, стоит Митька Гусак. Просто стоит, не двигается, должно быть, наслаждается сам собою. Он сейчас представляет удивительное зрелище, от одного взгляда на него возникает невольное — «И жизнь хороша, и жить хорошо!» В невиданно широкой кепке на маленькой голове, в тесном пиджаке какого-то невероятно кирпичного цвета, при черном галстуке, в черных брючках-обдергайчиках, в остроносых туфлях цвета беж — не человек, а олицетворение успеха. Кто поверит, что днем он кайлил землю?
А в Москве сейчас Инга укладывает спать Танюшку. У Танюшки — тугие щеки, вкрадчиво нежная кожа со всеми оттенками розового и молочного… И улыбка ее трогательно беззуба. И она, конечно, требует рассказать ей на ночь сказку: «Избушка, избушка, встань ко мне передом…»
Инга! Ах, Инга! Гордо посаженная голова, густые волосы, отливающие старой бронзой, глыба белого лба, глубокие глаза с твердыми зрачками, линии тела, презирающие застенчивость, — создана быть матерью и любовницей.
А Митька Гусак стоит посреди дороги и наслаждается сам собой.
Я жертвую счастьем дочери, счастьем Инги не ради себя. Наверное, ради Митьки Гусака тоже. А он, этот Митька, и без меня достаточно счастлив.
Ищу смысл жизни: для чего, куда, камо грядеши?..
Митьке плевать на эти вопросы. Он сыт и одет, да еще как одет — закачаешься! Вот он, нарядный, посреди дороги, сплошное великодушие — пожалуйста, любуйтесь мной, восхищайтесь, нисколечко не жалко.
Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы… «Инга, родная!.. Если можешь, забудь!» Наотмашь тебя, Инга, без жалости, вместе с дочерью. Ради Митьки Гусака и ему подобных…
И стройная березонька
Листву наденет новую.
И запоет соловушка
Над синею рекой.
Умиленно разнеженные девичьи голоса.
Надо перехватить письмо, оно не должно уйти из железного ящика в Москву. Люблю тебя, Инга, и творю тебе зло! «Люби ближнего своего…» Ближнего, самого ближнего — без жалости!
Зачем?!
Поют и смеются, играют гармошки — бархатный вечер. Почему я должен быть врагом себе и своим близким? Хочу жить, как все, радоваться теплу, дышать полной грудью и не мучиться: для чего, куда, камо грядеши?
Но в том-то и дело, что не мучиться я уже не могу. Завидую счастливому бездумию Митьки Гусака и презираю его.
Инга и Гусак… Нет, я не имею права ставить их рядом. И со всеми другими тоже. Я люблю Ингу, а потому все станут мне казаться плохи, ничтожны — никакого сравнения!
Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы… Я люблю! Люблю!! Но если каждый вот так станет любить только самого близкого, самого-самого, а к остальным относиться враждебно?..
«Люби ближнего своего…» Почему-то эти слова обычно приписывают Христу. Ложь! Они были сказаны до него, и Христос восстал против них. Еще раз вспомни самое возвышенное место из Нагорной проповеди:
«Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благоволите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?»
Сам Христос покинул своих родных: «нет пророка в своем отечестве». Любовь к родным была бы якорем на пути к безбрежной всечеловеческой любви. И Будда Готам, юноша из царского рода Шакиев, покинул однажды ночью жену и сына, бежал из своих дворцов на дороги.
Митька Гусак не нуждается в том, что я мученически ищу. Но Митька еще не все человечество. И не ради одного только Митьки я оставил Ингу и дочь, даже не ради только жителей Красноглинки…
Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы… Жертвуй любовью во имя любви. Жертвовать или не жертвовать — не от меня это зависит. Цветок умирает, когда приходит пора наливаться плоду, одно отрицает другое.
Я не стану перехватывать письмо, завтра оно уйдет из железного ящика в Москву. Люблю Ингу, буду любить, всегда буду чувствовать себя преступником перед ней. Всю жизнь станет жечь совесть — медленный костер до гроба.
За те счастливые минуты равновесия, которые я теперь время от времени испытываю, приходится дорого платить.
Играют гармошки, поют девчата, то там, то сям вспыхивает веселый смех. Митьке Гусаку надоело стоять посреди дороги, ленивенько побрел куда глаза глядят. В Красноглинке нежданный праздник.
И никто не знает, что я в этот счастливый вечер несу в себе бездну горя.
* * *
Утром постучали в окно, девичий голос прокричал:
— Теть Дусь! Твоему жильцу — повестка!
На клочке бумаги четким, без нажима почерком:
Гражданину Рыльникову Ю.А.
Просьба явиться к 9.00 сего дня в сельский Совет для выяснения неотложных вопросов, касающихся Вас лично.
Председатель Красноглинского с/с
Ушатков
— Ну, парень, не к добру, — объявила тетка Дуся. — Мишка Ушатков за хорошим не позовет. Уж я-то знаю, он хоть и не близкая, но родня мне.
Я уже немало слышал о председателе сельсовета Ушаткове. Не всегда он занимал сельсоветский пост, когда-то был одним из ответственных в районе работников, в свое время схлестнулся с менее ответственным Густериным, победил, высадил с высокого стула, а лет через десять скатился сам… к Густерину. «Здравствуй!..» — «Здравствуй!..» При встречах они без наигрыша приветливы, без усилий просты — старые добрые знакомые.
Ушатков — узаконенная власть Красноглинки, старший лейтенант милиции, участковый Тепляков обязан прислушиваться в первую очередь к нему. Густерин — экономика Красноглинки, тот же Тепляков, не к Ушаткову, а к нему идет по нужде — выдели лошадь, уступи тесу на крышу, дай машину… Ушатков выдает справки с печатями, Густерин — деньги.
Правление колхоза и сельсовет в Красноглинке под одной крышей, кабинет Густерина и Ушаткова через стенку, но входы разные, не перепутаешь.
Чопорная неуютная старомодность — два стола, составленные буквой «Т», один под кумачом, с пыльным графином, на другом плексигласовый чернильный прибор с кремлевской башенкой. Он за столом — бочком, без чиновной осанистости, видно, что в любую минуту готов сорваться и бежать из кабинета — в жизнь, в массы.
Под