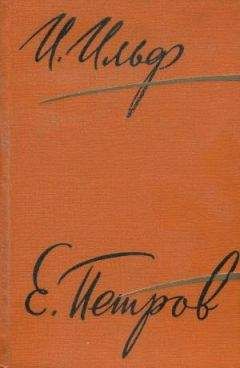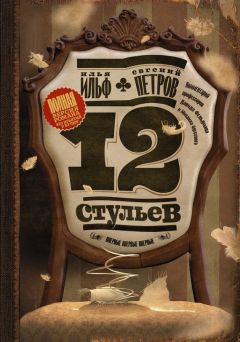У всех – Думалкина, Блеялкина, Вздох-Тушуйского и у самого лакового юноши Маркова – есть жены. Это мадам Думалкина, мадам Блеялкина, мадам Вздох и мадам Маркова.
И все пируют.
Пируют с такой ошеломляющей дремучей тоской, с какою служат в различных конторах, кустах и объединениях.
Уже давно они ходят друг к другу на ассамблеи, года три. Они смутно понимают, что пора бы уже бросить хождение по ассамблеям, но не в силах расстаться с этой вредной привычкой.
Все известно заранее.
Известно, что у Блеялкиных всегда прокисший салат, но удачный паштет из воловьей печени. У пьяницы Думалкина хороши водки, но все остальное никуда. Известно, что скупые Вздохи, основываясь на том, что пора уже жить по-европейски, не дают ужина и ограничиваются светлым чаем с бисквитами «Баррикада». Также известно, что Марковы придут с граммофонными пластинками, и известно даже, с какими. Там будет вальс-бостон «Нас двое в бунгало», чарльстон «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и старый немецкий фокстрот «Их фаре мит майнер Клара ин ди Сахара», что, как видно, значит: «Я уезжаю с моей Кларой в одну Сахару».
Надо заметить, что дамы ненавидят друг друга волчьей ненавистью и не скрывают этого.
Пока мужчины под звуки «Нас двое в бунгало, и больше никого нам не надо» выпивают и тревожат вилками зеленую селедку, жены с изуродованными от злобы лицами сидят в разных углах, как совы днем.
– Почему же никто не танцует? – удивляется пьяница Думалкин. – Где пиршественные клики? Где энтузиазм?
Но так как кликов нет, Думалкин хватает мадам Блеялкину за плечи и начинает танец.
На танцующую пару все смотрят с каменными улыбками.
– Скоро на дачу пора! – говорит Марков подумав.
Все соглашаются, что действительно пора, хотя точно знают, что до отъезда на дачу еще осталось месяцев пять.
К концу вечера обычно затевается разговор на политические темы. И, как всегда, настроение портит Вздох-Тушуйский.
– Слышали, господа, – говорит он, – через два месяца денег не будет.
– У кого не будет?
– Ни у кого. Вообще никаких денег не будет. Отменят деньги.
– А как же жить?
– Да уж как хотите, – легкомысленно говорит Вздох. – Ну, пойдем, Римма. До свиданья, господа.
– Куда же вы? – говорит испуганная хозяйка. – Как же насчет денег?
– Не знаю, не знаю! В Госплане спросите. Наобедаетесь тогда на фабрике-кухне. Значит, назавтра я вас жду. Марковы принесут пластиночки – потанцуем, повеселимся.
После ухода Вздохов водворяется неприятная тишина. Все с ужасом думают о тех близких временах, когда отменят деньги и придется обедать на фабрике-кухне.
Так пируют они по четыре раза в неделю, искренне удивляясь:
– Почему с каждым разом ассамблеи становятся все скучнее и скучнее?
1929
Время от времени, но не реже, однако, чем раз в месяц, раздается истошный вопль театральной общественности:
– Нужно оздоровить советскую эстраду!
– Пора уже покончить!
– Вон!
Всем известно, кого это «вон» и с кем «пора уже покончить».
– Пора, пора! – восклицают директора и режиссеры театров малых форм.
– Ох, давно пора, – вздыхают актеры этих же театров.
– Скорее, скорее вон! – стонет Главискусство.
Решают немедленно, срочно, в ударном порядке приступить к оздоровлению советской эстрады и покончить с полупетуховщиной.
Всем ясно, что такое полупетуховщина.
Исчадие советской эстрады, халтурщик Полупетухов, наводнил рынок пошлыми романсами («Пылали домны в день ненастья, а ты уехала в ландо»), скетчами («Совслужащий под диваном»), сельскими частушками («Мой миленок не дурак, вылез на акацию, я ж пойду в универмаг, куплю облигацию»), обозрениями («Скажите – А!»), опереттами («В волнах самокритики») и др. и пр.
Конечно, написал все это не один Сандро Полупетухов, писали еще Борис Аммиаков, Луврие, Леонид Кегельбан, Леонид Трепетовский и Артур Иванов.
Однако все это была школа Сандро и все деяния поименованных лиц назывались полупетуховщиной.
Действительно, отвратительна и пошла была полупетуховщина. Ужасны были романсы, обозрения, частушки, оперетты и скетчи.
И желание театральной общественности оздоровить эстраду можно только приветствовать.
Оздоровление эстрады обычно начинается с созыва обширного, сверхобщего собрания заинтересованных лиц.
Приглашаются восемьсот шестьдесят два писателя, девяносто поэтов, пятьсот один критик, около полутора тысяч композиторов, администраторов и молодых дарований.
– Не много ли? – озабоченно спрашивает ответственное лицо.
– Ну, где же много? Всего около трех тысяч пригласили. Значит, человек шесть приедет. Да больше нам и не нужно. Создадим мощную драмгруппу, разобьем ее на подгруппы, и пусть работают.
И действительно, в назначенный день и час в здании цирка, где пахнет дрессированными осликами и учеными лошадьми, наверху, в канцелярии, открывается великое заседание.
Первым приходит юный Артур Иванов в пальто с обезьяньим воротником. За ним врываются два Леонида, из коих один Трепетовский, а другой Кегельбан. После Луврие, Бориса Аммиакова является сам Сандро Полупетухов.
Вид у него самый решительный, и можно не сомневаться, что он вполне изготовился к беспощадной борьбе с полупетуховщиной.
– Итак, товарищи, – говорит ответлицо, – к сожалению, далеко не все приглашенные явились, но я думаю, что можно открывать заседание. Вы разрешите?
– Валяй, валяй, – говорит Аммиаков. – Время не терпит. Пора уже наконец оздоровить.
– Так вот я и говорю, – стонет председатель. – До сих пор наша работа протекала не в том плане, в каком следовало бы. Мы отстали, мы погрязли…
В общем, из слов председателя можно понять, что на театре уже произошла дифференциация, а эстрада безбожно отстает. До сих пор Луврие писал обозрения вместе с Артуром Ивановым, Леонид Трепетовский работал с Борисом Аммиаковым, а Сандро Полупетухов – с помощью Леонида Кегельбана.
– Нужно перестроиться! – кричит председатель. – Если Луврие будет писать с Трепетовским, Сандро возьмет себе в помощники Иванова, а Кегельбан Аммиакова, то эстрада несомненно оздоровится.
Все соглашаются с председателем. И через неделю в портфель эстрады поступают оздоровленные произведения.
Романс («Ты из ландо смотрела влево, где высилось строительство гидро»), скетч («Радио в чужой постели»), колхозные частушки («Мой миленок идеот, убоялся факта, он в колхозы не идет, не садится в трактор»), обозрение («Не морочьте голову»), оперетта («Фокс на полюсе») и др. и пр.
И на месяц все успокаиваются.
Считается, что эстрада оздоровлена.
1929
(Диспут о советской сатире в Политехническом музее)
Уже давно граждан Советского Союза волновал вопрос: «А нужна ли нам сатира?»
Мучимые этой мыслью, граждане спали весьма беспокойно и во сне бормотали: «Чур меня! Блюм меня!»
На помощь гражданам, как и всегда, пришло Исполбюро 1 МГУ.
Что бы ни взволновало граждан: проблема ли единственного ребенка в семье, взаимоотношения ли полов, нервная ли система, советская ли сатира – Исполбюро 1 МГУ уже тут как тут и утоляет жаждущих соответствующим диспутом.
«А не перегнули ли мы палку? – думали устроители. – Двадцать пять диспутантов! Не много ли?»
Оказалось все-таки, что палку не перегнули. Пришла только половина поименованных сатириков. И палка была спасена.
Потом боялись, что палку перегнет публика. Опасались, что разбушевавшиеся толпы зрителей, опрокидывая моссельпромовские палатки и небольшие каменные дома, ворвутся в Политехнический музей и слишком уже переполнят зал.
Но и толпа не покусилась на палку. Публика вела себя тихо, чинно и хотела только одного: как можно скорее выяснить наболевший вопрос – нужна ли нам советская сатира?
Любопытство публики было немедленно удовлетворено первым же оратором:
– Да, – сказал режиссер Краснянский, – она нам нужна.
Чувство облегчения овладело залом.
– Вот видите, – раздавались голоса, – я вам говорил, что сатира нужна. Так оно и оказалось.
Но спокойная, ясная уверенность скоро сменилась тревогой.
– Она не нужна, – сказал Блюм, – сатира.
Удивлению публики не было границ. На стол президиума посыпались записочки: «Не перегнул ли оратор тов. Блюм палку?»
В. Блюм растерянно улыбался. Он смущенно сознавал, что сделал с палкой что-то не то.
И действительно. Следующий же диспутант писатель Евг. Петров назвал В. Блюма мортусом из похоронного бюро. Из его слов можно было заключить, что он усматривает в действиях Блюма факт перегнутия палки.