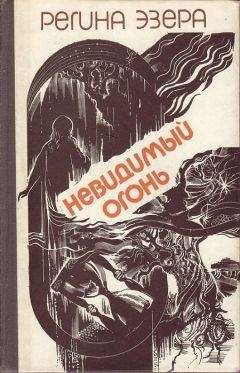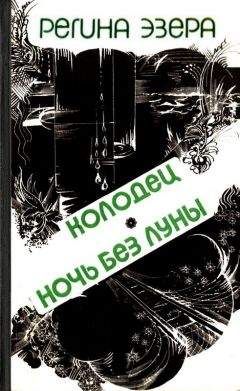И Алиса заносит бидон в кухню, там же оставляет намокшую одежду и резиновые сапоги — чего ж зря следить, марать в комнате пол. Потом стелет постель и влезает в ночную рубашку, уж конечно, не в нежно-розовый французский пеньюар, который давным-давно загнала в комиссионке, когда в Купенах сдохла от лейкоза корова и надо было покупать новую, и не в прозрачное итальянское белье, легкое и тонкое, как нейлоновая паутинка, какого у Алисы никогда не было и, наверно, уже не будет, если Петеру вдруг опять не взбредет на ум, не приспичит сорить деньгами и делать подарки. Она надевает фланелевую, цветами по зеленому полю, ночную рубашку с завязками под шеей, мягкую, теплую, удобную и, как пишут в «Здоровье», также гигиеничную, ведь хлопчатая ткань хорошо впитывает пот и не трещит, не бьет искрами, как вся эта воздушная и дорогая синтетика, в которой спать вредно — сон от нее дырявый и нервный.
Да так оно, видно, и есть, как говорится в «Здоровье», ведь во фланелевой рубашке Алиса засыпает сразу и крепко, и сны видит хорошие, потому что бумазея не трещит и не бьет искрой, — во сне она вместе с Петером!
…и над их головами сияющая лазурь. Казалось бы, вверху должно быть солнце, однако солнца нет, светило как бы затянуто небесно-голубым шелком, сквозь который сочится и пробивается, струится и течет сверкающей рекою свет. Петер еще совсем молодой, очень молоденькая и она. У Петера еще не светится сквозь зачес кожа и светлые кудри шапкой падают на лоб, как мыльная пена. И у нее тело легкое и гибкое, как стебель водяной лилии. На руках у нее сверток, увязанный не то в шерстяную шаль, не то в скатерть, и Петер спрашивает, что там такое — не цветы ли? И она, смеясь над его недогадливостью, откидывает угол покрывала, и на них обоих смотрят живые синие глаза ребенка. Но тут, все нарастая в окрестной тишине, усиливается странный шум — не то гул, не то шелест, не то дальний рокот. Как будто надвигается гром, хотя вокруг, сколько хватает глаз, ни облачка, ни тучки, и только льется и слепит голубое сияние. И Петер говорит: сейчас она увидит, и она спрашивает: а что, что она увидит? И Петер, удивляясь ее недогадливости, говорит: стаю фламинго, что же еще, ведь сюда летят нежно-розовые фламинго, эти живые розарии, эти сказочные существа — нечто среднее между птицами и цветами, которые ходят как балерины, спят как факиры и летят как дальняя гроза. И она с замирающим сердцем и слезами счастья смотрит на горизонт, где вот-вот должен вынырнуть косяк фламинго, и этот миг — последний миг перед появлением, когда воздух уже полон гулом ожидания, — может быть, еще сказочней самого появления.
Но то, что Алисе кажется во сне взмахами крыльев фламинго, на самом деле — шум дождя над Мургале. Он льет как из ведра, и земля лопается, гремя и треща сквозь дробь капель, как по весне лед, глухо звоня, как в марте Даугава, и мох динамитом взрывают грибы и выстреливают из земли ракетами…
* * *
…А в удивительном парке, где я брожу сейчас среди бледных фигур людей, размеренно качающихся взад и вперед, взад и вперед, в этом тихом царстве, по которому я блуждаю мимо серых теней, колыхающихся с жужжаньем и шелестом, с каким шелестят, облетая, листья и жужжит цветочный пух, — здесь не осень и не зима, не весна и не лето, здесь нет ни грибного дождя и трескучих морозов, ни пробуждения весны и знойного июля, здесь нет времен года, дня или ночи, так как само время утратило ценность, значение и даже смысл. Я хожу под голыми деревьями среди цветущих роз, и мои ноги не оставляют следов на снегу, которым все здесь засыпано, как после метели. И никто — ни зверек, ни санки не оставили тут ни следа, ни колеи, и с белых крон деревьев не стряхнул снега ни ветер, ни прыгучая белка, ни севший на кончик ветки дрозд. Птицы не вьют здесь гнезд и не кладут белых и пестрых яиц, и мыши в норах не приносят голых и теплых мышат. Все тут всецело принадлежит прошлому, и нет здесь былого близкого и далекого, есть только прошлое как таковое, былое вообще, в котором судьбы смешались, как воды сбегающих в реку ручьев. Ни достаток и должность, ни возраст и даже пол здесь не играют никакой роли. Часы стоят, и купить за деньги тут ничего нельзя.
Я молча гляжу на людей, которые некогда были моими соседями в Мургале и знакомыми, и они тоже на меня смотрят, хотя меня и не видят. Я знаю о них все, но стыда от этого они не испытывают, так же как я волнения. Мое знание не дает мне ни радости, ни удовлетворения, оно ни на что не годно, как старая, давно изъятая из обращения монета. Я опоздала — и никому больше не могу быть полезна, да никому и не нужно моей помощи или жалости здесь, в этом царстве, где нельзя ошибиться, так же как и ошибку исправить.
Раньше я могла бы кого-то из этих людей предупредить и уберечь, рассеять иное заблуждение и отвести беду. Но есть ли еще во мне достаточно желания понять других? И достаточно ли отчетливо я сознаю, что убить может не только пуля или нож, колесо или вирус, инфаркт или петля, но также совесть и тоска, прошлое и растерянность, многолетняя одержимость и секундная слабость? И разве так же, как сейчас мимо этих белесых безмолвных фигур, я не проходила молча мимо чужих страданий, занятая решением глобальных проблем, тогда как со мною рядом сгорали чудеснейшие галактики, шедевры природы — людские души?..
Велдзе, например, — убийца она или жертва? И если жертва, то кто ее убил? Ингус? Туман? Или ожившее прошлое? И кто виноват в смерти Марианны? Порок сердца? Петер? Войцеховский? Или мой синий бидон? И кто в ответе за гибель Вилиса Перкона? Ритма? Автобусный парк? Случайность? Или старая контузия? Тот мир, откуда все мы сюда попали одним и тем же путем — пройдя под величавый свод арки, мир, где царят противоречия и развитие, однозначного ответа на эти вопросы не дает. С другой же стороны, в этом парке теней, где наши фигуры с жужжаньем и шелестом колышутся подобно сухому тростнику в бесцельном однообразном движении, все лишилось всякого смысла, так как изменить что-либо и переиграть все равно нельзя и горький опыт прежних ошибок тут бесполезен. Может быть, кто-то из тихих обитателей этого сада и хотел бы исправить свое прошлое, но царство это не только беспощадно, но и милосердно — никому из его подданных неведомо чувство сожаления.
Этот мир нельзя переделать, его можно только принять. Против его порядков бессмысленно восставать, всякий бунт был бы бесплоден. Здесь властвуют кротость и смирение, которые постепенно передаются и мне…
В звенящей тишине я двигаюсь среди зыбких фигур, сама не зная куда и зачем, лишь смутно подчиняясь какой-то силе, которая незаметно и мягко и вместе с тем властно несет меня, как речная стремнина несет лодку без весел, и окрестный пейзаж по обе стороны скользит мимо, как берега: недвижные деревья и зыбкие фигуры, бесцветные розы и серые камни, блеклые снега и нетронутые дорожки. Я не удивляюсь ничему — я часть этого мира. Во мне нет ни жалости, ни надежды, только тело понемногу наливается свинцовой усталостью, как будто позади у меня далекий-далекий путь и цель уже близка.
Впереди гранено высятся еще четыре стройных белесых изваяния, образуя квадратную площадку, посреди которой, сгорбленный и заметенный снегом, маячит какой-то округлый предмет. С приближением вижу, что это четыре высокие снежные туи, а нечто низкое и округлое — большой валун. Протянув руку, сметаю с него снег. В сером граните высечены мое имя, фамилия и две даты, означающие начало и конец того, что называют человеческой жизнью.
Я поняла, что и я тоже убита. Но, так же как все остальное, меня и это не взволновало и даже не тронуло, словно относилось совсем не ко мне.
УБИЙСТВО, ЗА КОТОРОЕ НЕ СУДЯТ,
ИЛИ РАССКАЗ О СЕБЕ
Мало таких, кто способен
правду сказать о другом,
но нет человека, кто сказал бы
всю правду о себе.
Рейнис Каудзит
Недаром говорится: за грехи молодости мы расплачиваемся в старости, а иногда не в старости даже, а в зрелые годы. Святая правда, и я могу это подтвердить — ведь я и сама типичная жертва грехов молодости.
А началось все так.
Вопреки рекомендациям строгой педагогики (которые тогда мне были неизвестны), в детстве я читала не только высокопробные книги, сочиненные специально для юношества (в которых и по сей день на последней странице указывается, для какой возрастной группы они предназначены), а все подряд, что удавалось выудить и раскопать на чердаках в тех усадьбах, куда я летом нанималась пастушить, так что в руки мне попадала весьма разнородная продукция человеческого мозга, начиная с Боккаччо и кончая Куртс-Малер, начиная с «Католических ведомостей» и кончая «Мужчиной и женщиной», начиная с жития святых и кончая поваренными книгами, словом, всякая всячина, полная мешанина, по которой я и проходила свои университеты и просвещала свой ум как в искусстве, так и в литературе, как в зоологии, так и в географии, как в кулинарии, так и в сексологии, без малейшего усилия заучивая заодно уйму стихов весьма разного качества, усваивая массу давно устаревших сведений и даже таких положений, которые сейчас были бы расценены как безусловно идеалистические и потому вредные, особенно для незрелой еще системы взглядов, каковая в десяти-, одиннадцатилетнем возрасте, несомненно, была и у меня. И прямо-таки макиавеллиевское коварство этих идей я могу подтвердить с полной ответственностью, так как последствия их мне пришлось испытать на собственной шкуре, больше того — в каком-то смысле можно сказать, что они были косвенной причиной моей смерти, хотя и несколько десятилетий спустя.