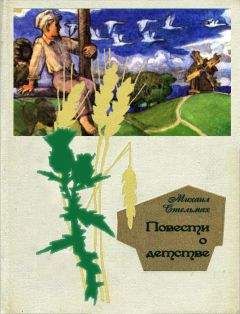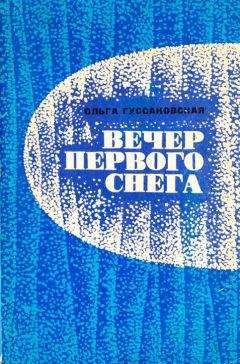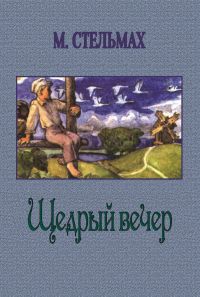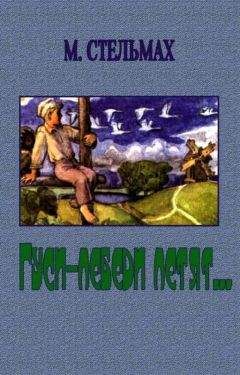— А теперь вы, дядя Стратон, уже не министр?
— Нет, теперь я комбедчик, — весело смеется дядя Стратон.
Таки, видать, он ничуть не горюет, что лишился своего министерского звания, не так, как некоторые сейчас.
С дядей Стратоном мы прощаемся уже друзьями, он приглашает меня приехать с дедом в их село. Там до сих пор стоит дом, где собирались все мужицкие министры, а их премьер-министр теперь председательствует — аж в уездном потребсоюзе.
Едва дядя Стратон уехал домой, к нам пришел староста. Дедушка говорит, что он толстый, как гусь осенью, а походку имеет утиную. Вспомнив это, я сразу веселею, а староста, шевеля развесистыми губами, подозрительно смотрит на меня. Дальше, смиренно вздыхая, он сразу начинает жаловаться на тонкое дело — политику. Церковный староста считает себя незаурядным политиком, потому что заглядывал в газету, которую выписывает поп, и даже выхватил из нее десяток не понятных ни ему, ни людям слов и лепит их, где надо и где не надо. От международностей он переходит на керосин и соль, которых не купишь сейчас.
— То ли при большевиках парадоксально море пересохло, то ли эту соль Антанта по тезисам к буржуазии вывезла? — тюкает и тюкает свое.
Но и дедушка тоже деликатно тюкнул его:
— А вы так сделайте по тезисам: волы — в воз и парадоксально к морю. Там все узнаете, еще и соли домой привезете.
Старосте не нравится, что дедушка перехватывает его ученость, и начинает говорить без нее:
— Поедешь по шерсть, а вернешься стриженым, потому что такое время: нигде нет никакого порядка. Да как он может быть, когда теперь не то что соли — даже народа не стало.
— Да опомнитесь, человече! Зачем вы такие печали высыпаете среди бела дня? — начал дед стыдить старосту. — Где же это, по-вашему, делся народ?
— Спросите об этом у большевиков. Это когда-то все были люди, а теперь стали — кулаки, середняки и нищета.
— А при помазаннике божьем не видели нищеты? Или тогда даже козы в золоте ходили?
— Козы тогда не ходили в золоте, — отводит насмешку староста, — но что было моим, то было моим, а теперь никто не разберет, где мое, где твое, а где наше. Он уже Себастьян комбедчикам нарезал Ильцовщину, то не будет ли ему, как изменится власть, нарезки на одном месте?
— Все может быть, — соглашается дедушка. — Иногда даже за длинный язык бывает сякая-такая нарезка на другом месте.
— Да я не против, чтобы нарезали Ильцовщину — это помещичья земля, — хитрит староста. — А вот как предковую начнут резать…
— Далеко вперед вы пустили кур… с каким-то делом или с политикой пришли ко мне?
Староста хмурится, вертит головой и вздыхает:
— Да надо сделать круг колес, только такая у меня бедность…
— Так почему вы в комбед не запишитесь? Там понемногу помогают беднякам, — смеется дедушка, а лицо старосты берется сизоватым румянцем.
В это время на пороге появилась мать. Она окинула взглядом двор и пошла к соседям. А мне только этого и надо: я сразу юрк в дом разыскивать тыквенные семена. Они, дожидаясь своего часа, лежали на дымоходе. Посмотрев в окна, я развернул оба узелка и в тревоге посмотрел на отборные, обведенные ободком зерна, что дышали прозрачной и легкой чешуей.
И почему теперь не осенняя пора, когда тыквы бьют прямо об землю, а потом из их золотистых пазух выбирают скользкое семя? Кто бы тогда заметил те четыре стакана, которые надо занести Юхриму? А вот как сейчас?.. Узелки же большие. Может, как-то все и обойдется? Я знаю, что за такие мысли меня стоит отпороть, но не могу преодолеть искушения.
Соскочив на пол, взял со шкафа для посуды граненый стакан и, холодея, начал на печи намерять семена — два стакана в один карман, два — в другой. Они мне показалось вначале жгучими и тяжелыми, как камни. Дальше осталось накрест завязать узелки и положить точнехонько так, как они лежали. Когда я снова опускаюсь на пол, с божницы на меня строго смотрит и грозит пальцем седой бог-отец — единственный свидетель моего грехопадения.
Со страхом и невеселой радостью, которая пробивалась сквозь все тревоги, я выскочил на весеннюю улицу, где каждая лужица держала в себе кусок солнца. Оно сейчас во все стороны мерками рассыпало тепло, раструшивало лучи, и в нем так веселели голубоватые домики, будто кто-то приглашал их на танец. Под заборами уже вылезала крапива и дурман, а над заборами набухала и смотрелась глеем вишневая почка. Думая о своем, я выхожу на другую улицу и в это время сбоку слышу неласковый мужской голос:
— Бог подаст, добрая женщина. Бог! Он богаче нас.
Эти слова приглушает рычание собаки и тяжелый звон цепи. Я оглядываюсь на двор, обнесенный глухим высоким частоколом, где затих голос мужчины, чтобы его продолжал собачий лай. Сквозь него я слышу еще с сеней:
— Откуда же они?
— Да будто бы из Херсона, — равнодушно ответил первый голос. — Бродят всякие, а ты подавай и подавай, как не ломтик, то картофель.
— Когда уже это разорение закончится?
Со двора испуганно выходит в лохмотьях, в растоптанной обуви еще молодая женщина с глубокими глазами, ее взгляд ищет земли, а разгонистые брови летят вверх. Сбоку к ней жмется босоногий без картуза мальчишка, их исстрадавшиеся, истощенные лица припали теменью дальних дорог и голода. Женщина останавливается напротив меня, потрескавшимися пальцами поправляет платок, а в ее черных глазах закипают темные слезы…
Я до сих пор помню того, кто пожалел ее материнству, ее ребенку кусок насущного хлеба. Это был богатый и богомольный человек, через руки которого проходили голодом пригнанные катеринки, петрики, золотые империалы и серебряные рубли с большими головами мелкого царя. Я до сих пор помню тучную фигуру этого богача. Он имел святообразную голову и бороду, у него всегда хорошо родили поля, луга, лесные делянки — и только под перелогом лежала одна душа. Только потому, что он уже умер, не называю его имени…
Женщина, скрестив руки на груди, робко оглянулась, ища двор, который бы не ощерился на нее собаками, а ребенок недоверчиво, исподлобья смотрели на меня. На его тонкой шее покачивалась тяжеловатая голова, оканчивающаяся взбитыми хмелевидными кудрями. И тут я вспомнил о своих семечках. Вынул горсть и подал малышу. Он обеими ручонками схватил зерна, а потом посмотрел на мать. Та кивнула головой и вздохнула точнехонько так, как иногда в недобрый час вздыхала моя мать. Потом я высыпал в подол сорочки мальчика семян с одного кармана и взялся за другой. Но женщина остановила меня.
— Спасибо, дитя, не надо больше, ой, не надо, — склонила ко мне скорбные глаза, разгонистые брови, и я на своей щеке ощутил прикосновение ее губ и слез. — Пусть тебе, дитя, всегда, всегда хорошо будет промеж людьми.
Меня так поразили ее слезы и слова, я тоже чуть не заплакал от горя…
А может, это не женщина, а моя глубокоглазая крестьянская судьба тогда прислонилась ко мне!?.
Она еще раз обвела меня своим скорбным взглядом и пошла с ребенком прямо на мою улицу. Между вишняками раз и второй раз мелькнул ее платок — и уже нет ни женщины, ни ее глубоких глаз, ни ребенка с хмелинами кудрей. А я, как из сна, выхожу из человеческого страдания и долго смотрю ему вслед.
Со двора богача выходит длиннющая черная свинья, на ее шее покачивается деревянная колодка. И на ней, и на морде, и на копытах свиньи густеет истолченный картофель.
«А ты подавай и подавай, как не ломтик, то картофель», — снова заскрипел голос богача, и я с отвращением ушел от высоченного частокола и глухих ворот…
А вот куда мне дальше деваться? Вернуться домой или идти к Юхриму Бабенко. Может, раскошелится он и за два стакана семечек даст почитать книгу? Догнал или не догнал, а попытаться можно.
И я уже бегу с улочки в улочку, а навстречу мне ветерок бросает зеленые ивовые прутья и солнечное снование, что шевелится в ветвях.
Юхрима я застаю на второй половине дома. Сейчас он уже не в галифе, а в обычных потертых штанах сидит на скамье и указательным пальцем правой руки выбивает не то стон, не то рычание из балалайки, еще и помогает ей ногами и пением:
Отчего ты карапет,
Оттого, что денег нет.
Отчего же денег нет?
Потому, что карапет.
Около Юхрима на столе стоит большая, как горшок, чернильница, из нее торчит толстая с обгрызенным концом ручка, а в сбоку от них лежит несколько исписанных листов бумаги. Наверное, Юхрим и сейчас «строчит» какой-то материал, а чтобы лучше строчилось, он еще и музыкой забавляется.
Увидев меня, старый холостяк отбросил волосы набок, обнажил набухшую жилку на лбу и засмеялся:
— Вот и тыквенные семечки, соображаю, сами по всем параграфам пришли в дом! Угадал, малец?
«Чего ему так понравилось звать меня мальцом?»
Юхрим видит, что я молчу, переспрашивает: