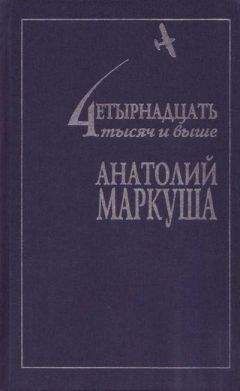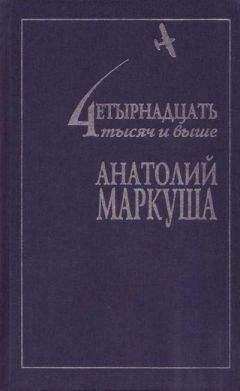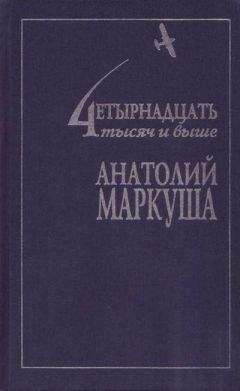Любопытно, мы так долго взаимодействовали, помогая друг другу, выручая, защищая, страхуя от возможных неприятностей, что среди своих получили кличку заклятых друзей. Как нам удалось сохранить нерушимость этой дружбы? Говорят — лучше плохой мир, чем хорошая ссора. Признаюсь, я этой народной псевдомудрости не принимаю, жизнь подсказывает — мир, дружеское расположение, преданность без компромиссов не бывают и вряд ли возможны даже в теории.
Людей без недостатков я лично не встречал. И мой лучший друг не составлял в этом отношении исключения. Самый неприятный его грех назову повышенным тяготением к знаменитостям. Странно, но ему льстили публичные рукопожатия знаменитых артистов, заслуженных медиков, видных ученых. Он млел от удовольствия, когда ему случалось даже мимолетно очутиться на телеэкране в обществе Юрия Никулина, рядом с академиком Сахаровым, кокетничающим с Аллой Пугачевой. Обидно мне было наблюдать его суетливым, едва ли не заискивающим, ну, совсем не аэродромным, где он представал всегда спокойным, властным, опасно ироничным…
В этой связи вспоминаю порой конфуз, испытанный мной много лет назад. Видать, и во мне теплился зачаток того же греха. А вылечился я от него в одночасье. Впервые пришел к Марку Лазаревичу Галлаю. Дверь открыл хозяин. Был он в форменных брюках, в защитной рубашке без погон. «Товарищ майор, — рапортую, как учили, — младший лейтенант… по вашему приглашению прибыл». Но это было только начало конфуза. Войдя в комнату, обнаружил висевший на спинке стула подполковничий китель. Что я понес! Как постыдно вилял воображаемым хвостом, пока Галлай не остановил меня: «Да полно вам, в подполковниках я хожу второй день. И вообще, мы же — летчики».
И такое было. Теперь думаю — пусть уж лучше меня обвиняют в авиационном чванстве, чем заподозрят в подхалимстве. Да, мы летчики. Я — летчик, и этим горжусь…
Дни, недели, годы смешаются в памяти, впрочем, хронология меня не очень занимает: я же не автобиографию пишу, тем более — не летопись. Для меня важно — было? Было!
Только-только ввалился в дом, из командировки прилетел — звонок.
— Прибыл? Все в порядке? Сегодня шестнадцатое сентября, не забыл?
— Привет! И что?..
— Старикашка, тебе не стыдно?
И тут я вспоминаю — это случилось шестнадцатого, в прошлом сентябре. Машина валилась до самой земли под углом градусов в семьдесят… Там, где он упал, образовалась воронка метров в тридцать диаметром и глубиной — страшно вообразить… Копали, копали, практически ни до чего не дорылись, нагребли чуть-чуть железок… так что схоронить пришлось пару пригоршней земли с места падения. Символически… И никто не мог толком сказать как, за что Земля приняла нашего товарища. В таких случаях слышишь: глупая катастрофа. И всегда вздрагиваю от этих слов: катастрофы не бывают ни глупыми, ни тем более — умными, только более или менее неизбежными…
— Приводи себя в порядок, старикашка, в семнадцать тридцать заеду за тобой. Быть в параде! И не ершись… ты же знаешь вдову…
Ехать придется. И в парадную форму влезать придется, хотя я терпеть не могу крахмальных воротничков, белых рубашек, удавок-галстуков и идиотских висюлек на плече… Честно — я и вдову терпеть не могу за ее убогий умишко и непомерные претензии.
В назначенное время прибывает мой друг. Мы оглядываем друг друга.
— Почему у нас такой глупый вид, — говорит он, — ты не можешь мне объяснить, старикашка?
— Хотел бы, но не могу. И никак не возьму в толк, почему мы должны считаться с этим… как его?.. общественным мнением?
— О времена, о нравы! — так, кажется, говорилось когда-то. Ты же знаешь, у покойного была слабость к регалиям, знакам отличия, он готов был спать в погонах, особенно когда был пожалован золотыми генеральскими. Сегодня его день. Летчик-то он был, сам знаешь, божьей милостью…
По дороге мы покупаем цветы. Белые махровые гвоздики. И не потому, что они самые роскошные и самые дорогие, мы велим снять с букета розовые ленты и убрать полусеребряный полупрозрачный пакет: нам нужны именно белые гвоздики в натуральном виде. Дело в том, коль цветы выбирал бы он сам, то выбрал белые, махровые на высоких и толстых стеблях гвоздики. Он знал толк в цветах — он вырос в семье профессиональных садоводов. Мы не забыли этого.
За минувший год в доме мало что изменилось. Правда, со стен исчезли многочисленные фотографии самолетов. В прихожей не висит реглан, потертый на плечах парашютными лямками. Вдова — в черном. Платье модное, пожалуй, даже чересчур. Как и прежде она норовит сунуть ручку для целования. Друг — целует, а я делаю вид, что не понял жеста. Вдова произносит какие-то выспренние слова благодарности за память, за верность и еще за что-то и тут же начинает знакомить с теми, кого мы прежде не знали. В ее исполнении это представление звучит диковато: заслуженный деятель… потом — генерал-лейтенант… следом — народный… и так далее, и так далее. Мне совсем не к месту делается вдруг смешно. Вспоминаю знаменитую аэродромную байку, пользующуюся неизменным успехом во время банка. Андрею Николаевичу Туполеву принесли на подпись какую-то челобитную. Просьба была сформулирована четко и заняла всего пять строк машинописного текста, а дальше в колонке, растянутой на половину страницы, следовали:
Действительный член Академии наук СССР…
Лауреат…
Заслуженный деятель…
Герой…
и прочая, и прочая…
Старик хмыкнул, прибавил к перечню всех своих должностей и званий: «И Алешин папа». После чего расписался и без комментариев вернул петицию служивому подхалиму.
Да-а, вспомнилось, наверное и не к месту, а может — в самый раз… По новомодному обычаю к столу не приглашали. Фуршет! Как у людей. Народу пришло больше, чем можно было ожидать. Помнят люди? Или набежали на дармовую выпивку? Не хочется думать о пришедших хуже, чем они того стоят, но судя по тому, как рвутся к закускам, как торопятся толкать тосты… нет, не буду, извините.
Через час сделалось душно, говорили все сразу, понять что-нибудь было затруднительно, и я не понял, почему вдова стала уверять каких-то незнакомых мне людей, что ее муж никогда не выражался, «даже черного слова от него никто не слышала», не говоря уже о большем. Подумал: ничего себе заливает! Это кто не выражался?! Наш знаменитый матерщинник и сквернослов, царствие ему небесное. И тут услыхал голос моего друга:
— Но не станете же вы утверждать, Лилия Алексеевна, что в жизни не бывает ситуаций, когда без крепкого слова просто невозможно обойтись?
Мадам поиграла пальцами, оседланными дорогими кольцами, изобразила некоторое смущение и задумчиво изрекла:
— Готова держать пари на что угодно, что вы не сумеете привести ни единого убедительного примера в защиту своего сомнительного утверждения.
— А если смогу?
— Тогда потребуете, чего пожелаете, что вам вздумается…
— Идет!
И тут все услыхали, как под конец войны моему другу довелось полетать на трофейном Ме-109. Чужой истребитель, кстати сказать, ему понравился, в первую очередь простотой управления. Учитывая это обстоятельство, он вызвался произвести на этом аппарате разведку аэродрома противника. Командование долго не соглашалось, выдвигая при этом длинный ряд вполне разумных возражений, но когда приперло — немцы начали перебазирование своих летных частей по всему фронту — ему сказали: «Лети, валяй, — и трогательно добавили: — Только осторожно!» — Слетал я осторожно, над их летными полями проходил совсем низко, чтобы основательно разглядеть, какая там обстановка. В «своего» они либо не стреляли вовсе, либо открывали огонь с таким опозданием, что не могли уже попасть. Постепенно я совсем успокоился, понял — разведка удалась, можно рвать когти домой. Не успел я пересечь линию фронта, как мне влепили наши. От души! Деваться некуда, пришлось садиться на вынужденную. Шасси не выпускал, приткнулся на полянке рядышком с зенитчиками. Из кабины вылезти не дали — вытащили! И пошли в рукопашную. Я кричу: ребята, я же свой! А они: вот, сука, по-нашему соображает и погоны нацепил нашенские…» Тут я понял: пропал. Забьют до смерти. И ненависть эта мне понятна — у скольких родители, жены, ребятишки под оккупантами сгинули… И ведь на своей земле пропали. Но я же не виноват в их беде! Мне тоже, как им, жить охота. Вот и перешел я на великий наш матерный лексикон. — Здесь мой друг выдержал паузу и спросил у хозяйки дома: — Прикажете цитировать? — Не получив, однако, прямого указания как быть, он элегантно сымпровизировал: — Стоило рявкнуть «а… вашу мать телеграфным столбом до печенки», как в пехоте сразу нашелся сообразительный человек: «Ребята, он правда наш, немцу так не придумать!» Ну, что скажете, Лидия Алексеевна, убедительно?
Вдова сложила губки бантиком и призналась — проиграла.