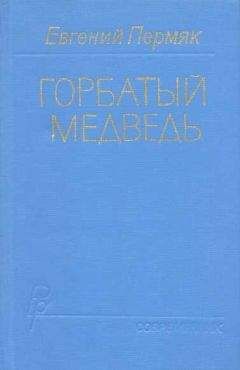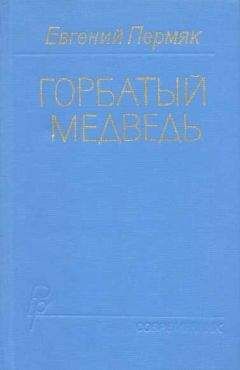Тем временем жена Сидора Петровича уставляла большой стол, перешедший от Тихомировых. Не та была теперь еда у Непреловых, что раньше. И красная икра, и пироги из белой самарской крупчатки Малюшкиных. Колбасы пяти сортов. Шпроты, сардинки. Хоть они и один перевод денег, но брат же. Хозяин. В таком разе и дорогая семга — не расход.
В Мильве выстаивали в очередях за вяленой воблой, за съеденным солью бросовым рыбцом, а у Сидора Петровича осетрина и нельма, доставленные по первому морозцу в обмен на сладкое масло, изготовленное по вологодским тайным премудростям вологодской солдаткой, мыкающей вдовье горе при молочном заводе.
Старуха сварила пиво и брагу. Они не считались непьющими братьями Непреловыми хмельным питьем, хотя после пятка стаканов кружили голову. Но это кружение не от винных градусов, а от веселого солодового и медового брожения старинных питий. Это не проклятый алкоголь и не сивуха, которую гонит рогатый винокур Чемор.
Все было подано сразу. Скопом. И десерт, и закуска. Так теснее на столе и веселее за столом.
После третьего стакана медовухи Герасиму Петровичу не казалось, что Россия будет поделена между немцами, австрийцами и турками. А если и будет поделена, то не дальше Вятки-реки. Не любит немчура холода.
Сидора Петровича беспокоил декрет о земле. Он, умевший только расписываться, заполучил этот декрет, переписанный волостным писарем.
— В декрете, Герася, говорится о помещичьей земле. А какая земля, Герася, у нас? И кто мы? — спрашивает Сидор Петрович.
Герасим Петрович Непрелов теперь сам не знает, кто он такой. С одной стороны, крестьянин. С другой — военный чиновник с двумя звездочками. С третьей — землевладелец и хозяин фермы. Следовательно — буржуй. Но не Савва Морозов. Не Рябушинский… Но и не мелкий лавочник, торгующий в лавчонке, сдаваемой собором. За таких могут взяться. Могут, но успеют ли?
— Зимой землю не переделишь под снегом.
— В Мильве все прочие партии не хотят ихней партии передавать власть. Требуют поголовного голосования с восемнадцати годов, окромя девок и баб.
— Сидор, — прерывает брата Герасим Петрович, — в Мильве будет установлена Советская власть. Сегодня, завтра, через неделю… Не важно когда. Дураки покричат, помахают руками, а умные промолчат.
— Неужели ж молчать и глядеть, как переходит к ним власть?!
— Пусть переходит. Пусть они берут ее вместе с нуждой, с дороговизной, с проголодью, с заводами без материалов, без дров, с землей без семян, без бога, которого боялись и слушались мужики… Пусть берут и подавятся, захлебнутся…
Герасим Петрович, не сговариваясь с Турчанино-Турчаковским и тем более с Керенским, говорил то же самое. Какие бы заманчивые идеи ни проповедовали Советы и большевики, коли народу нечего есть, не во что обуться, одеться, он свернет шею самому Христу.
— Вот так, Сидор. Будем терпеть, молчать да кланяться и не соваться до поры до времени в драчку. Понял ли?
— Понял, Герася. Как не понять, — ответил Сидор Петрович, уставившись на рыбный пирог, к которому пока никто еще не притронулся.
Мало хорошего впереди. На мельницу косятся мужики. Не бросить ли собаке кость, пока она не кинулась на тебя? Не отдать ли миру мельницу, сказав, что с ней много хлопот и еще больше убытков?
Волки меняли шкуру.
IV
В церковноприходской школе верили Толлину, когда он, рассказывая явные небылицы, придумывал невероятные истории о заблудившейся телеграмме, о маленьких человечках, о собаке, которую научили говорить… А теперь он, ничего не выдумывая, говорил правду, даже несколько ослабляя ее, чтобы не выглядеть героем и не попасть в хвастуны. Вызывал улыбки. Его никто не называл вралем, но по глазам товарищей было так ясно, что ему не верят.
Не верят, что Зимний дворец — это обыкновенный большой дом, окна которого выходят на улицу. Нет, Зимний дворец, оказывается, должен быть замком на горе, и Нева должна преграждать путь к нему. Оказывается, Временное правительство заперлось в главной высоченной башне дворца-замка и било из крепостных пушек.
И получалось, что не он, Маврикий Толлин, видел все это своими глазами, а они, никогда не бывавшие в Петрограде, рассказывали ему и рисовали не виденные ими картины переворота.
Смольного, оказалось, вообще нет как такового. И слова такого нет. Толлин просто-напросто не расслышал. Есть Смоленский дворец.
Выходило, что торопыга Толлин недослышал и перевирает теперь слова. И когда его спросил Коля Сперанский, а затем Воля Пламенев, что, может быть, он еще скажет, что видел Ленина, Маврик промолчал. Ему никто не поверит. А если он еще скажет, что слышал, как Владимир Ильич объявил о свершившейся рабоче-крестьянской революции, — его подымут на смех и, чего доброго, отвернутся от него.
Мите Байкалову, описывавшему внешность Ленина, верили. Верили и солдатам в вагоне, когда они рассказывали, какой из себя Ленин. Владимир Ильич во всех слышанных Маврикием описаниях выглядел по-разному и всегда не таким, как есть.
И почему только так поступают многие? Они прежде придумают что-то. Потом поверят в выдуманное, как действительное. И в конце концов отрицают действительное, называя им выдуманное.
Надо сказать, что и старые друзья Ильюша с Санчиком верили не всему, что рассказывал им Маврикий. Они не считали своего товарища лгунишкой, но находили, что Толлин не может не преувеличивать. И он не виноват в этом. Такое уж у него воображение.
Да и не тем были заняты их головы. Союз рабочей молодежи снимал комнатушку на окраине Мильвы. А теперь, когда взят Зимний дворец, взяты все дворцы, можно подумать и о «дворце» бывшей пароходчицы Соскиной. Пусть так не называется соскинский особняк, но такое множество комнат не должен занимать Шульгин, купивший за бесценок этот дом с садом. Здесь вполне разместится комитет и клуб рабочей молодежи.
До Маврикия ли теперь двум юным передовым рабочим, когда Мильва стоит накануне свержения власти соглашателей и прихвостней буржуазии? До рассказов ли им восторженного Маврикия?..
Только тетя, милая тетя Катя, верила каждому слову своего питомца. И он по нескольку раз пересказывал ей о виденном в Петрограде, повторяя каждый раз подробности, мелочи, будто боясь, что они могут затеряться в его памяти, которой так много нужно запомнить и сохранить.
Верил и Всеволод Владимирович Тихомиров всему, что рассказывал его исключительно правдивый ученик Толлин. Слушая его Всеволод Владимирович думал о своем. Ему теперь показалось вполне своевременным произвести коренные изменения в гимназии, которые должны начаться с изменения названия учебного заведения, что он считал далеко не второстепенным. На совместном заседании учителей, родителей и ученического совета Всеволод Владимирович предложил назвать гимназию средним политехническим училищем.
Кто-то попробовал возразить, не желая терять общепринятое название, но большинство присоединилось к проекту Всеволода Владимировича.
Инженеры завода вызвались помочь станками, инструментами и оборудовать настоящие мастерские при политехническом училище, а приспосабливающийся к новым ветрам Турчанино-Турчаковский посоветовал проходить техническое обучение в цехах завода.
— Выдать ученикам настоящие заводские номера, — предлагал он, — сшить настоящую рабочую одежду и, может быть, тем, кто, обучаясь в мастерских, будет производить полезную работу, — платить настоящие деньги.
Это произвело на всех самое хорошее впечатление. Обучаться на заводе. Ходить в рабочих куртках. Даже получать оплату. Что можно придумать лучше.
Из мильвенских хамелеонов Турчаковский был вправе называться способнейшим. Он куда быстрее других приспособлялся к окружающей обстановке. Комитет большевиков все еще ютился в Замильвье, и Турчанино-Турчаковский освободил для него двенадцатикомнатный кирпичный дом на Красной улице. Он так и скажет Кулемину, что комитет победившей партии будет расти и ему невозможно далее находиться в деревянном домишке, где-то на окраине.
И участие в орабочивании гимназии характеризовало Турчаковского с самой лучшей стороны. Такой отзывчивый человек. Им же было сказано на училищном совещании:
— Политехнизм, граждане, это не только ознакомление с промышленностью, но и познание агрономических основ. И так жаль, что вы, Всеволод Владимирович, — обратился к нему Турчаковский, — продали такую прелестную усадьбу с мельницей. Там можно бы создать учебное земледелие, садоводство, огородничество, учебное разведение животных и птицы…
Всеволод Владимирович впервые пожалел свою землю, проданную Непреловым. Но думать сейчас об этом беспочвенно. Да и не маниловщиной ли окажется предлагаемое Турчаковским? Можно ли браться за все сразу? Осуществить бы техническое обучение на заводе. А вдруг возникнут какие-то новые обстоятельства, и Турчаковский любезнейше увильнет, что он делает с изумительным блеском?