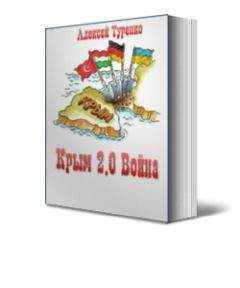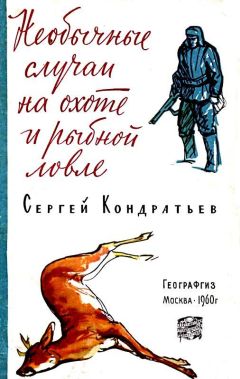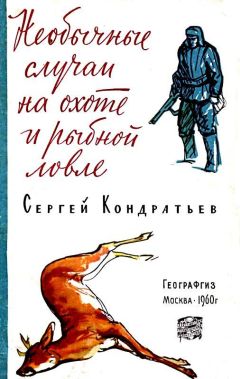…Они набросились на него озверелой стаей, били и топтали его огромное, сильное тело. Баров молча сносил истязания, и от этого они еще больше зверели. Ни единый стон не вырвался из его груди даже тогда, когда Мишка-палач бил кованым сапогом по его распухшим обмороженным ногам. Разъяренный великим терпением человека и собственным бессилием, Лапин всей тяжестью наступил каблуком на руку Алексея. Раздался хруст сломанных пальцев. Баров судорожно дернулся, но опять не издал ни звука. Они хотели услышать его стоны, они хотели услышать, как он будет молить о пощаде, они хотели сделать все, чтобы сломить мужество человека. Но не смогли его одолеть.
— Стой! — вдруг закричал Лапин. Его трясло от возбуждения, вызванного видом крови. — Стой! — Он поднял руку, и полицейские, тяжело дыша, прекратили избиение.
Лапин бросился к сараю в глубине двора. Там он торопливо принялся разбрасывать кучу старых книг. Он хватал то одну, то другую, пытаясь что-то отыскать. Наконец Мишка нашел обыкновенный букварь и выхватил его из кучи. Он открыл книгу и увидел портрет Владимира Ильича Ленина. Это было как раз то, что искал предатель.
Лапин подскочил к Барову. Алексею удалось уже встать на колени. Он не хотел встречать смерть лежа, ему хотелось стать во весь рост, но сил для этого совсем не осталось.
Мишка-палач трясущимися руками вырвал из букваря портрет Ленина и сунул его в лицо Барову.
— На, смотри! Это твой дорогой и любимый вождь, — завизжал он на высокой ноте. — Плюй на него! Ну, плюй!
Кровь тонкой струйкой стекала с рассеченного лба и капля за каплей падала на портрет Ленина.
— Плюй! Плюй! — принялся вдруг умолять его Лапин.
Бессильный сломить Барова физически, он хотел растоптать его морально, заставить надругаться над самым дорогим, что было у Алексея. Лапин спешил, Лапин бесновался. Его не покидала мысль, что на крыльце стоит Карл Зук вместе со своими гестаповцами. Лапин хотел блеснуть перед оберштурмфюрером, доказать им, что он лучше их разбирается в людях и готов любой ценой добиться своей цели.
Сквозь кровавую пелену Баров посмотрел на портрет Ленина, и неожиданное тепло разлилось по телу. Он глядел и не верил, что перед ним портрет Владимира Ильича. Баров тряхнул головой, подумал, что все это ему пригрезилось. Но портрет не исчезал, а в уши настойчиво лез визгливый крик: «Плюй, плюй, плюй!»
— Плюй, плюй, плюй! — умолял жалостливый Мишкин голос. — Немножко плюнь! — уже шептал он на ухо Барову. — Я отпущу тебя! Плюнь же, ну!
Эсэсовцы с молчаливым интересом наблюдали за разыгравшейся сценой. Этот русский большевик вызывал у Карла Зука уважение.
— Не плюнет, — проговорил он. — Такие делают все наоборот. «Мне бы таких десяток, и я бы отдал за них всю эту пьяную свору», — подумал эсэсовец. Он смотрел на Барова с каким-то странным чувством раздвоенности: с одной стороны, тот вызывал у него восхищение, с другой — страх, непонятный, неосознанный страх, охватывающий его душу.
— Ничего не выйдет! Бесполезная затея, уж поверьте мне, — проговорил Зук. — В моих руках их перебывало, дай бог каждому из вас. Такой уж характер фанатичный. Не пойму только одного: какой смысл упорствовать? Игра проиграна, мы знаем, что он большевик, что шел на связь. По крайней мере это глупо. Скажи, Ганс, ты бы смог вот так?
Альбрехт вскинул презрительно голову.
— У меня другое предназначение. Оно предопределено для меня фюрером. Но если мой фюрер прикажет…
— Брось, Ганс. Ты на такое не способен! — задумчиво прервал его Зук.
— Как прикажете понимать ваши слова, господин оберштурмфюрер? — обиженно проговорил Ганс Альбрехт и залился краской.
— Где это вас учили перечить старшим? — спокойно, переходя на «вы», проговорил Зук. Его подчиненные знали, что если оберштурмфюрер переходил с ними на «вы», то дело принимало плохой оборот, и унтерштурмфюрер это понял.
— Что вы, господин оберштурмфюрер, я просто не понял ваших слов, — поспешил загладить свой промах Альбрехт. — Такое истинному немцу ни к чему. Страдания души и тела присущи лишь дикарям, вроде этого русского. Ведь мы видим, что он уже сломлен окончательно. Он держится только на упрямстве, и ему абсолютно все равно: плюнуть на эту бумажку или нет, — затараторил он. — У нас бы он заговорил быстро, — добавил он и с ужасом замер, опасаясь, что Зук может отдать ему этого русского. С таким, как этот партизан, недолго и сломать себе шею…
Зук уловил пугливую мысль Альбрехта и посмотрел на подчиненного. Ироническая улыбка скользнула по его губам.
— Ну что же, давайте, господин унтерштурмфюрер!
Эсэсовец, проклиная в душе свою болтливость и несдержанность, неуверенно стал спускаться по ступенькам.
…Алексей оторвал глаза от портрета Ленина и поднял голову. Он увидел униженно просящие глаза Мишки-палача и, собрав последние силы, плюнул ему в лицо.
Лапин от неожиданности шарахнулся в сторону и чуть не упал в сугроб. В следующую секунду он, теряя самообладание, рванул из кобуры парабеллум. Алексей с ненавистью смотрел на Мишку, пронизывая его своим взглядом. И Лапин под этим взглядом весь съежился. Он стрелял в Барова до тех пор, пока в пистолете не кончились патроны.
Воздух огласился страшным, нечеловеческим криком. Мишка вздрогнул. Оттолкнув часового, обезумевшая от горя пожилая женщина бежала через двор к месту трагедии. Следом за ней сюда же вбежала молоденькая девушка.
Лапин потянулся к полицаю, взял из его рук автомат, торопливо вскинул его и длинной очередью расстрелял обеих женщин.
Альбрехт торжествующе взглянул на Зука и проговорил напыщенным тоном:
— Финита ля комедия!
* * *
В комнате наступила тишина. Присутствующие молчали. Все они были захвачены картиной суровой правды и мужественного героизма.
— Спасибо вам, товарищ Петренко, — наконец проговорил полковник. — Какие люди!.. Было бы неплохо после того, как мы закончим это дело, выступить вам в печати, по радио, рассказать о них… Мы обсудим это с вами. Продолжайте!
Петренко рассказал о работе подпольной группы, организованной в городе командиром партизанского отряда Русаковым. Многочисленные факты преступлений Мишки-палача раскрыли картину морального падения предателя Родины. Но, к сожалению, как это сам Петренко констатировал, они не дали ни малейшего намека на то, где можно искать скрывающегося преступника.
— Я все же склонен считать вашу командировку очень полезной для нашего дела, — подчеркнул полковник Федоров. — Мне кажется, что сейчас у многих нет сомнений в том, что общение с массами не так уж вредно, — усмехнулся он, вспомнив с каким молчаливым недоверием отнесся к его предложению майор Агатов.
Майор отвернулся к окну и стал смотреть на улицу, на людей, торопливо снующих во все концы. Про себя подумал: «Удивительное чутье у человека. Знание жизни, людей и ориентировка на дух времени. Десять лет назад его бы просто сочли вольнодумцем…»
Полковник заговорил снова:
— Надо подождать, что даст нам Перминов из Озерска. На него я возлагаю большие надежды. Зацепка должна быть там!
В Озерске все оказалось не так, как предполагал вначале Перминов.
Сидя в вагоне поезда, идущего в загадочный Озерск, капитан не испытывал особой радости и удовлетворения. Перминов прикинул: он приезжает в Озерск, через местных товарищей устанавливает, где живут бывшие полицаи, а их, как ему сообщили, здесь всего шесть. За один день он на машине объезжает их всех, делает графологический анализ почерка и выезжает обратно. Самое интересное, пожалуй, достанется Виктору, он выйдет в Е. на след преступника… Графолог здесь, наверное, не понадобится, по крайней мере на первой стадии. Человек, писавший письмо, вряд ли пытался изменить почерк. Рассуждал он примерно так: Озерск за несколько тысяч километров, искать никто не будет. Да и зачем?
…Первые две встречи ничего не принесли Перминову. Бывшие полицейские, отсидев по десять-двенадцать лет, не проявляли особого интереса к делу. Они ограничивались ничего не значащими фразами, говорили односложно. Капитана все это удивляло и злило. Но он сдерживал себя и по нескольку раз начинал беседу с самого начала. Наконец, ему удалось докопаться до сути их поведения. Они просто-напросто боялись мести.
— Кто может вам мстить? — спрашивал удивленный Перминов. — Лапин? Откуда он может знать, что я с вами говорил? — горячился он.
— Мишка все знает! — с тупым упрямством твердил Панов. — Это я, дурак, не мог скрыться. А другие пересидели, пока амнистия не вышла, и выползли. Ни тебе страхов, ни тебе ахов! Думаете, они страшно обрадуются, когда узнают, что Витька Панов распустил язык? У каждого из них грехов не меньше Моего. Лучше о них молчать, коль хочешь дожить до старости…