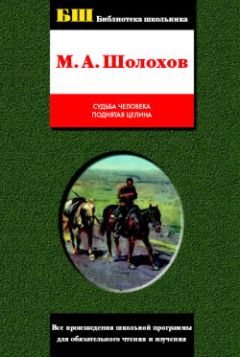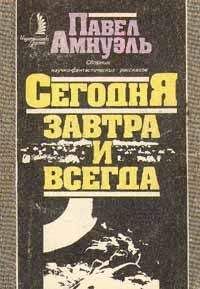Макар хмурился, но отвечал сдержанным шепотом:
— Подумаешь! Ты бы послушал, дед, наших генералов — вот это наши, настоящие голоса! А что твой Брусилов? Во-первых, бывший царский генерал — стало быть, подозрительная личность для меня, а во-вторых, интеллигент в очках. У него и голос-то, небось, был как у покойного Аркашкиного петуха, какого мы съели. В голосах тоже надо разбираться с политической точки зрения. Вот был, к примеру сказать, у нас в дивизии бас — на всю армию бас! Оказался стервой: переметнулся к врагам. Что же ты думаешь, он и теперь для меня бас? Черта лысого! Теперь он для меня фистуля продажная, а не бас!
— Макарушка, но ить петухов политика не затрагивает? — робко вопросил дед Щукарь.
— И петухов затрагивает! Будь заместо майданниковского петуха какой-нибудь кулацкий — да я его слушать бы в жизни не стал, паразита! На черта он мне сдался бы, кулацкий прихвостень!.. Ну, хватит разговоров! Ты садись за свою книжку, а я за свою, и с разными глупыми вопросами ко мне не лезь. В противном случае выгоню без пощады!
Дед Щукарь стал ревностным поклонником и ценителем петушиного пения. Это он уговорил Макара пойти посмотреть майданниковского петуха. Будто по делу, они зашли во двор Майданникова. Кондрат был в поле на вспашке майских паров. Макар поговорил с его женой, спросил, как бы между прочим, почему она не на прополке, а сам внимательно осматривал важно ходившего по двору петуха. Тот был весьма солидной и достойной внешности и роскошного рыжего оперения. Осмотром Макар остался доволен. Выходя из калитки, он толкнул локтем безмолвствовавшего Щукаря, спросил:
— Каков?
— Согласно голосу и обличье. Архирей, а не петух!
Сравнение Макару очень не понравилось, но он промолчал. Они уже почти дошли до правления, когда Щукарь, испуганно вытаращив глаза, схватил Макара за рукав гимнастерки:
— Макарушка, могут зарезать!
— Кого?
— Да не меня же, господи помилуй, а кочета! Зарежут, за милую душу! Ох, зарежут!
— Почему же это зарежут? С какой стати? Не пойму я тебя, что ты балабонишь!
— И чего тут непонятного? Он же старее навоза-перегноя, он по годам мне ровесник, а может, и старше. Я этого кочета ишо с детства помню!
— Не бреши, дед! Кочета по семьдесят годов не живут, в законах природы про это ничего не написано. Ясно тебе?
— Все одно он старый, у него на бороде все перо седое. Или ты не приметил? — запальчиво возразил дед Щукарь.
Макар круто повернулся на каблуках. Шел он таким скорым, размашистым и широким шагом, что Щукарь, поспешая за ним, время от времени переходил на дробную рысь. Через несколько минут они снова были во дворе Майданникова. Макар вытирал оставшимся на память о Лушке женским кружевным платочком пот со лба, дед Щукарь, широко раскрыв рот, дышал, как гончая собака, полдня мотавшаяся за лисой. С лилового языка его мелкими капельками сбегала на бороденку светлая слюна.
Кондратова жена подошла к ним, приветливо улыбаясь.
— Аль забыли чего?
— Забыл тебе сказать, Прохоровна, вот что: своего кочета ты не моги резать.
Дед Щукарь изогнулся вопросительным знаком, протянул вперед руку и, поводя грязным указательным пальцем, тяжело дыша, с трудом просипел:
— Боже тебя упаси!..
Макар недовольно покосился на него, продолжал:
— Мы его хотим на племя для колхоза у тебя купить или обменять, потому что, судя по его обличью, он высоких породистых кровей, может, его предки даже из какой-нибудь Англии или тому подобной Голландии вывезены на предмет размножения у нас новой породы. Голландские гусаки с шишкой на носу бывают? Бывают. А может, и этот петух голландской нации, — ты же этого не знаешь? Ну и я не знаю, а стало быть, резать его ни в коем случае нельзя.
— Да он на племя не гож, старый дюже, и мы хотели на Троицу его зарубить, а себе добыть молодого.
На этот раз уже дед Щукарь толкнул локтем Макара: мол, что я тебе говорил? — но Макар, не обращая на него внимания, продолжал убеждать хозяйку:
— Старость — это не укор, у нас пойдет на племя, подкормим как следует пшеницей, размоченной в водке, и он начнет за курочками ухаживать — аж пыль столбом! Словом, ни в коем случае этого драгоценного кочета изничтожать нельзя. Задача тебе ясная? Ну и хорошо! А молодого кочетка тебе нынче же дедушка Щукарь доставит.
В тот же день у жены Демки Ушакова Макар по сходной цене купил лишнего в хозяйстве петуха, отослал его Майданниковой с дедом Щукарем.
Казалось бы, что последнее препятствие было преодолено. Но тут по хутору прокатился веселый слух, будто Макар Нагульнов для неизвестных целей скупает всюду петухов оптом и в розницу, причем платит за них бешеные деньги. Ну как любивший веселую шутку Размётнов мог не откликнуться на такое событие? Услышав о диковинной причуде своего друга, он решил все проверить самолично и поздним вечером заявился на квартиру к Нагульнову.
Макар и дед Щукарь сидели за столом, уткнувшись в толстые книги. Коптила лампа с чрезмерно выпущенным фитилем. В комнате порхали черные хлопья, пахло жженой бумагой от полуистлевшего бумажного абажура, надетого прямо на ламповое стекло, и стояла такая тишина, какая бывает только в первом классе начальной школы во время урока чистописания. Размётнов вошел без стука, покашлял, стоя у порога, но ни один из прилежно читавших не обратил на него внимания. Тогда, еле сдерживая улыбку, Размётнов громко спросил:
— Здесь живет товарищ Нагульнов?
Макар поднял голову, внимательно всмотрелся в лицо Размётнова. Нет, ночной гость не пьян, но губы подергиваются от неудержимого желания расхохотаться. Глаза Макара тускло блеснули и сузились. Он спокойно сказал:
— Ты пойди, Андрей, к девкам на посиделки, а мне, видишь, некогда с тобою впустую время тратить.
Видя, что Макар отнюдь не расположен делить с ним его веселое настроение, Размётнов, садясь на лавку и закуривая, уже серьезно спросил:
— Нет, на самом деле: к чему ты их покупал?
— К лапше да ко щам. А ты думал, что я из них мороженое для хуторских барышень делаю?
— За мороженое я, конечно, не думал, а диву давался: к чему, думаю, ему столько петухов понадобилось, и почему именно петухи?
Макар улыбнулся:
— Уважаю в лапше петушиные гребни, вот и все. Ты диву давался насчет моих покупок, а вот я, Андрей, диву даюсь — почему ты на прополку не изволишь ходить?
— А что мне прикажешь там делать? За бабами присматривать — так на это бригадиры есть.
— Не присматривать, а полоть самому.
Размётнов, отмахиваясь руками, весело рассмеялся.
— Это чтобы я вместе с ними сурепку дергал? Ну уж это, брат, извиняй! Не мужчинское это дело, к тому же я ишо не кто-нибудь, а председатель сельсовета.
— Не велика шишка. Прямо сказать, так себе шишка на ровном месте! Почему же я сурепку и тому подобные сорняки наравне с ними дергаю, а ты не могешь?
Размётнов пожал плечами.
— Не то что не могу, а просто не желаю срамиться перед казаками.
— Давыдов никакой работой не гнушается, я — тоже, почему же ты фуражечку на бочок сдвинешь и по целым дням сиднем сидишь в своем Совете, либо замызганную свою бумажную портфелю зажмешь подмышкой и таскаешься по хутору, как неприкаянный? Что, секретарь твой не сумеет какую-нибудь справку о семейном положении выдать? Ты, Андрей, брось эти штучки! Завтра же ступай в первую бригаду, покажи бабам, как герои гражданской войны могут работать!
— Да ты что, с ума сошел или шутишь? Убей на месте, а не пойду! — Размётнов со злобой кинул в сторону окурок, вскочил со скамьи. — Не хочу быть посмешищем! Не мужчинское это дело — полоть! Может, ишо скажешь — идти мне картошку подбивать?
Спокойно постукивая огрызком карандаша по столу, Макар сказал:
— То и мужчинское дело, куда пошлет партия. Скажут мне, допустим: иди, Нагульнов, рубить контре головы, — с радостью пойду! Скажут: иди подбивать картошку, — без радости, но пойду. Скажут: иди в доярки, коров доить, — зубами скрипну, а все равно пойду! Буду эту пропащую коровенку тягать за дойки из стороны в сторону, но уж как умею, а доить ее, проклятую, буду!
Размётнов, немного поостывший, развеселился:
— Как раз с твоими лапами корову доить. Да ты ее в два счета свалишь!
— Свалю — опять подыму, а доить буду до победного конца, пока последнюю каплю молока из нее не выцежу. Понятно? — И, не дожидаясь ответа, раздумчиво продолжал: — Ты об этом деле подумай, Андрюха, и не особенно гордись своим мужчинством и казачеством. Наша партийная честь не в этом заключается, я так понимаю. Вот надысь еду в район, новому секретарю показаться, по дороге встречаю тубянского секретаря ячейки Филонова, спрашивает он у меня: «Куда путь держишь, не в райком?» В райком, говорю. «К новому секретарю?» К нему, говорю. «Ну, так сворачивай на наш покос, он там». И указывает плетью влево от дороги. Гляжу: там покос идет вовсю, шесть лобогреек ходят. Вы что, спрашиваю, очертели, так рано косить? А он говорит: «У нас там не трава, а гольный бурьян и прочий чертополох, вот и порешили его скосить на силос». Спрашиваю: сами порешили? Отвечает он мне: «Нет, секретарь вчера приехал, оглядел все наши поля, на этот бурьян напхнулся, ну, и задает вопрос нам: что будем с бурьяном делать? Мы сказали, что запашем его под пары, а он засмеялся и говорит: мол, запахать — дело слабоумное, а на силос его скосить — будет умнее».