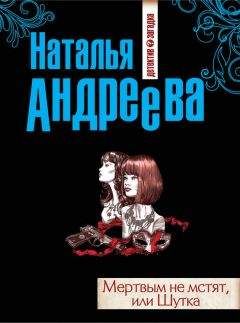После похорон совсем раскисшая, шатающаяся на подсекающихся ногах Гавриловна упала на старый кожаный диван, где спала Людочка и завопила: «У-у-удоч-ка!» — муслила карточку квартирантки, увеличенную со школьной фотографии. Беленькая, еще не в смятой форме, Людочка вышла как живая, даже улыбку было заметно. Гавриловна как-то разглядела ту припрятанную застенчивую улыбку.
— За дочку, за дочку держала, — высказалась она, сморкаясь в старое кухонное полотенце. — Все пополам, кажну крошечку пополам. Замуж собиралась выдать, дом переписать… Да голубонька ты моя сизокрылая… Да ласточка ты моя, касаточка! Что же ты натворила? Что же ты с собой сделала?..
Мать уже в голос не плакала, видно, чужих людей, чужого дома стеснялась. Только слезы, неприкаянные слезы, переполнившие никем еще не измеренную русскую бабью душу, катились сами собой со всего лица, выступали из всех ранних и не ранних морщин, даже из-под платка, из ушей, проколотых еще в молодости для сережек, но так и не изведавших тяжести украшения, проступало мокро. Впрочем, слезы не мешали ей править бабьи дела, потчевать гостей, поскольку Гавриловна совсем сдала, отрешилась от мирских дел. Прикрыв глаза черными круглыми веками, сложив руки на животе, она лежала в горнице совсем выговорившаяся, наплакавшаяся и вроде бы неживая.
Когда слезы матери со звуком бились о тарелки с мясом и с картошкой, об вазу с кутьей, мать Людочки роняла: «Извините!» — и торопливо тыкала скомканной серой тряпкой по столу. «Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради, поминайте», — просила она.
Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубаху, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул: «Я пойду покурю», — и, накинув на себя болоньевую куртку с вязаным воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплюнул, посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки Вэпэвэрзэ и двинулся по направлению к парку.
Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека — Стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности, чтоб уж сразу и без затей взять и повязать мятежную группу.
Утомленные бездельем парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развалясь на скамье, парень не парень, мужик не мужик в малиновой рубахе, с браслетами, часами и кольцами на руках, крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке с вязаным воротником, словно пробитой по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед несокрушимой бетонной скамьей.
— Чё те, мужик?
— Поглядеть вот на тебя пришел.
— Поглядел и отвали! Я за погляд плату не беру.
— Так, значит, ты и есть пахан Стрекач?
— Допустим! Штаны спустим…
— Ишь ты! Еще и поэт! Прибауточник! — Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи Стрекача крестик, бросил его в заросли. — Эт-то хоть не погань, обсосок! Бога-то хоть не лапайте, людям оставьте!
— Ты… ты… Фраер!.. Да я те… Я те обрезанье сделаю. По-арапски! — Стрекач сунул руку в карман.
Вся компания вэпэвэрзэшников замерла, ожидая со страхом и вожделением, какое сейчас захватывающее дух кровавое начнется дело.
— Э-э, да ты еще и ножиком балуешься! — скривил губы отчим Людочки. Неуловимо-молниеносно перехватив руку Стрекача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы.
Тут же, не дав опомниться Стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубахой и поволок удушенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пинал мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и как персидскую царевну швырнул в поганые воды сточной канавы. Только мелькнул Стрекач оголившимся животом, исчирканным красными полосами — не раз симулировал в лагерях отчаянность, чиркал себя лезвием по брюху. Поразило парней, бросившихся подбирать ботинок шефа, отыскивать часы и кольца в бурьяне, как стреляли пуговицы аглицкого фрака. Они не выдергивались с мясом, не ломались по дыркам, как наши отечественные. Оловянные, никелевые ли, может и серебряные, заморские пуговицы отстреливались от фрака, оставляя на борту крепкие серебристые крючки. Пулею сверкнув, разлетелись те пуговицы по сторонам, одна аж на другую сторону канавы улетела, птаху малую выпугнула из кустов.
Из зелено-черных, соплями обвешанных зарослей раздался такой вопль, что если б в это время заревел давно умолкший, ржавчиной захлебнувшийся гудок паровозного депо, так его было бы не расслышать.
Вороны взлетели, собачонки бродячие из парка Вэпэвэрзэ прянули, сорвалась с привязи старая одноглазая коза.
Отчим Людочки вытер руки о штаны и пошел прочь.
Вэпэвэрзэшное кодло — шестерки Стрекача заступили дорогу мужику, он уперся в них взглядом. Парни-вэпэвэрзэшники почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик этот запросто стопчет! Настоящего, непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью, этот давно уже ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающей, по-звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди оттого, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящейся не в сознании, а за пределами его в том месте, где, от пещерных людей досгавшееся, сквозь дремучие века прошедшее, клокотало всесокрушающее, жалости но знающее бешенство.
У-у-уы-ы-ых! У-у-у-уы-ы-ых! — доносилось из угробы, из-под набрякших неандертальских бугров лба, из-под сдавленных бровей, а из глаз все сверкали и не гасли, сверкали и не гасли те искры, тот пламень, что расплавил и сделал глаза пустыми, ничего и никого не видящими.
Пакостные, мелкие урки, играющие в вольность, колупающие от жизненного древа липучую жвачку, проходящие в знакомых окрестностях подготовительный период для настоящих дел, для всамделишного ухода в преступный мир или для того, чтобы, перебесившись, отыграв затянувшееся детство, махнуть рукой на рисковые предприятия, вернуться в обыденный мир отцов и дедов, к повседневному труду, к унылому размножению, сейчас вот уловили они хилыми извилинками в голове, что существование среди таких деятелей, как это страшилище, — житуха ох какая нефартовая, ox какая суровая и, пожалуй что, пусть она идет свом порядком. Вот уж когда размоет все границы меж тем и этим миром, а к тому дело движется, когда совсем деваться некуда будет, что ж, тогда «здрасьте!», тогда под крыло такого вот пахана…
Парни занялись спешным делом: трое или четверо волокли из канавы почти уже сварившегося, едва слышно попискивающего Стрекача. Кто-то к трамвайной остановке ринулся — вызвать «скорую», кто-то — в старые бараки с двумя-тремя еще не забитыми окнами, где обретались отверженные обществом, спившиеся существа и брошенные детьми старики, отыскивать мать пострадавшего, обрадовать привычным известием совсем разрушенную старуху об еще одном «художестве» сыночка родимого, кажется, насовсем отгостившего под крышей родного барака. Славный, бурный путь от детской исправительно-трудовой колонии до лагеря строгого режима завершился. Угнетенные, ограбленные, царапанные, резанные, битые, в страхе ожидания напасти живущие обитатели железнодорожного поселка вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового Стрекача, ими же порожденного и взращенного.
Дойдя до окраины парка, отчим Людочки споткнулся вдруг и по закоренелой привычке жить настороже, все видеть, все слышать, заметил на сучке, нависшем над тропою, обрезок пестренькой веревочки, почему-то не отвязанной милиционерами. Какая-то прежняя, до конца им самим не познанная злая сила высоко его подбросила, он поймался за сук, тот скрипнул и отвалился от ствола, обнажив под собой на глаз коня похожее йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему-то понюхав его, отчим Людочки тихо, для себя молвил:
— Что же ты не обломился, когда надо? — и с внезапным неистовством, со все еще неостывщим бешенством искрошил сук в щепки. Отбросив обломки, стоял какое-то время, исподлобья наблюдая, как по исковерканному кочковатому парку, ковыляясь, ошупью пробиралась к канаве машина «скорой помощи». Он закурил. В белую машину закатывали комком что-то замытое, мятое — текла по белому грязная жижа. Отчим Людочки плюнул окурок, пошел было, но тут же вернулся, раздергал туго затянувшуюся пеструю веревочку, снял ее с тополиного обломка, сунул в боковой карман куртки, притронулся к груди и, не оглядываясь, поспешил к дому Гавриловны, где уже заканчивались поминки. На столе еще оставалось много всякого добра. Городские бабы не могли одолеть всю выпивку, мало их было. Отчим Людочки выпил стакан водки, вслушался в себя и выпил еще один. Постоял над столом, глядя на оробевшую жену, на настороженно примолкших баб, уже начавших мыть и разбирать собранную по соседям посуду, с сожалением оторвал взгляд от бугылки, переборол себя — заметно это было — и, махнув рукой жене, поспешил к вечерней электричке.