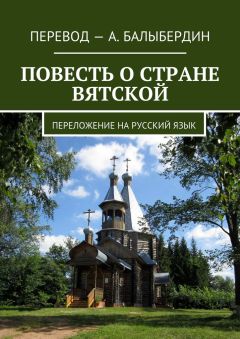— Объявить сумасшедшим, и под замок! — горячилась Шура.
— Наша вина, наша. — Гробов застучал себя кулаком в грудь. — Твоя, Гробов! Сколько пропьянствовали, а съездить куда надо не подумали. Еду в Алма-Ату!
— Запьешь по дороге, не берись!
Гробов натянул шапку, застегнулся и подал Шуре руку:
— Еду! Привезу комиссию. Вы тут держитесь!
Выйдя из дежурки на мороз, он захотел выпить, потоптался, пообмял в раздумье снег у крыльца и вернулся в дежурку к Шуре.
— Нет ли у тебя стаканчика на дорогу? Мороз такой, знаешь! Без стаканчика…
— Сиди уж! — Она сдернула с Гробова шапку. — Не хорохорься! Спасать вздумал!.. Вот вы такие и создаете Адеевых. Леднев из вашей же породы! — Она всунулась в еще не успевшую нагреться шубу и побежала к Ледневу.
Одетый по зимнему варианту — в сибирскую доху, шапку-ушанку, бурки и еще закутанный шерстяным шарфом, он ходил по юрте, потирая зазябшие, посинелые руки и выпыхивая носом клубочки густого, будто ватного пара.
— Погреться? — встретил он Шуру, вошедшую быстро, без разрешения и даже предупреждения. — Напрасным надежды: мне уже третий день не привозят дров.
— И правильно делают, вы вон какой буржуй.
— Не буржуй, а ученый: здесь две зимы мерз. Обучили надеяться только на себя, на свою шубу. Вы откуда, из рабочкома? Расскажите, что там?!
— Вы должны либо немедленно освободить место другому, либо взяться за работу! — хрипло выдохнула Шура. — Пока вас убирают, арестовывают…
— Что, что? — Он схватил Шуру за плечо.
Она сбросила его руку и продолжала:
— Пока вас арестовывают, здесь все развалится и смычки не будет.
— Я поступаю честно, я уже предупредил Елкина. Как только мне дадут машину, поеду к нему сам. Но если мне не дают, если шоферы не выполняют мои приказы…
— Сегодня же, немедленно либо отказаться, либо стать начальником! — требовала Шура, вся дрожа и от озноба и от волнения.
— Присядьте! Как жаль — нечем затопить, а впрочем… — Леднев выдернул из-под кровати дорожную корзину, опростал и начал растаптывать, приговаривая: — В тюрьму можно и с одним чемоданом. Да кто же пустит с чемоданом? Отнимут и узелок.
Сухая корзина занялась пышным пламенем. Леднев примостился к печурке по одну сторону, Шура — по другую. Оба протянули над ее румянеющей спиной озябшие руки.
— Ни с кем другим я не стал бы объясняться, — цедил медленно инженер. — Но ваши наскоки, этакие мальчишеские атаки меня умиляют… Они если и не умны, то вполне бескорыстны. Я не считаю себя виновным, я…
— Нужно было два месяца назад. Вы затянули, подготовили! Вы, вы… — Шура сердито трясла головой. — Сознательно, обдуманно!..
— Возможно. — Он попробовал побарабанить пальцами по печурке, но обжегся. — Возможно, возможно, что я переборщил, увлекся. Мне хотелось до конца проследить процессик, уж очень любопытно. Дать товарищу Адееву доиграться.
— Вместе с ним доигрались и вы. — Шура встала. — Когда же Елкин узнает все?
— Поехать?.. У нас не ходит ни одна машина. На лошадях? — Леднев поежился и вздрогнул. — Елкин предупрежден, на меня больше не надеется. Меня разоружила наша ярость, ваша непосредственность. — Он стоял, разводил руками над печкой и приговаривал, осматриваясь: — Вы… Что вам надо? Впрочем, вы из тех, исступленная. Вам трудно понять меня.
— Последний раз говорю вам: немедленно за работу! — Шура встала.
— Куда спешить, зачем? Погрейтесь!
Она отмахнулась и ушла.
Он долго стоял и говорил:
— Исступленная. И вот так пришла и прижала. Кто она мне? Фу? А прижала. Дерзость, особая дерзость. Странный народ, куда-то бегут, волнуются, будто все решается в одну, именно в эту, секунду.
Подъехала пароконная бричка. Грохотов завернул жену в тулуп, усадил в трескучий камыш, положенный вместо сена, на прощанье ласково потянул за холодный нос и сказал:
— Спрячь его подальше, потеряешь! — Ну, — повернулся к ямщику. — Гони! На Малый Сары не поднимайся, проедешь низом, степью, речки наверняка замерзли.
Бричка с визгом покатилась в лощинку. По голубоватой ночной степи закачалась и запрыгала тень, размахивающая кнутом. Сначала ехали нижней дорогой, но километрах в десяти от Джунгарского попали в глубокие снежные заносы и свернули на Малый Сары — путь удлинялся на полдня.
На десятки километров ни одного караван-сарая, ни аула, останавливаться на открытом месте — только зря тратить время, и потому решили весь путь сделать единым махом.
Степные лошаденки бежали спорой рысью, беспрестанно размахивающий кнут ямщика не давал им сбавлять прыти. Шуре первые часы было тепло, она даже осмеливалась откидывать воротник тулупа и любоваться картинами обледенелых гор, залитых лунным светом. Но когда взобрались на эти горы, путников встретил такой ветер, что и тулуп, и шуба, и вязаное белье перестали быть защитой.
Было знобко, тревожно. Колеса брички дико визжали по заледенелому снегу. Ямщик бежал рядом с бричкой и покрикивал:
— Жива?
— Начинаю замерзать, — отвечала Шура. Она тоже пробовала бежать, но в тулупе уставала на первой же четверти километра, без тулупа еще сильней мерзла. И так всю ночь, в Айна-Булак приехали только близ полудня.
Увидев Шуру, вошедшую с обмороженным лицом, Глушанская закричала неистово:
— Куда, куда? Идите, оттирайте!
— Не могу, — прохрипела Шура и протянула к девушке руки с белыми, точно обсыпанными мукой, тоже обмороженными пальцами.
Глушанская сдернула с Шуры тулуп, шапку, шубу, велела лечь вверх лицом, притащила таз снегу, схватила две горсти и начала растирать обмороженное лицо.
— Вы сдерете всю кожу, тише, больно! — жаловалась Шура.
— Молчите! — покрикивала девушка и схватывала лицо с еще большей силой. Она работала, как прачка, с засученными рукавами, и наконец добилась — румянец, сперва появившись на скулах, начал заливать все лицо Шуры. Тогда Оленька принялась оттирать ей руки.
В полудне вернулся Елкин — пообедать. Оленька и Шура, обе с пылающими лицами, сидели на топчане. Елкин сел против них.
— Чем ударите меня? — спросил, постукивал пальцем в крышку папиросной коробки. — Мне теперь все, и друг и недруг, стали врагами. Что ни день — обухом по голове.
Оленька, как бы обнимая Шуру, дергала ее сзади за кофточку.
— Ничего, у нас там сносно. Я по своим делам к врачу, — пробормотала Шура, косым взглядом спрашивая Оленьку, ладно ли отвечает. Оленька одобрительно погладила ей спину.
— А Леднев, а безнадежность. Он только позавчера говорил об обреченности. Его выдумка?
— Недостатков много, но (поворот к Оленьке) не так уж безнадежно.
— А я было подумал — добивать приехали. И компрессоры работают. Машины все-таки не ходят? Что такое у Леднева с рабочкомом?
— Мелкие столкновения.
— Ну, ну, не буду мучить.
Пообедав, Елкин снова засобирался уходить.
— Я в Огуз Окюрген, там Калинка валандается в котлованах что-то слишком долго. Новая трещинка. Так вот они, как на худой посудине… Оленька, устрой ее в тепло! У нас ведь и обогреться почти негде. Пришлось отказать в дровах всем. Я инвалид. Мне из жалости, из христианского братолюбия немножко дают, — не то иронически, не то грустно улыбнулся и вышел.
Оленька оставила Шуру у себя. Она боялась, что во всяком другом месте, без ее контроля, Шура неосторожно проговорится, и это дойдет до Елкина. Он разволнуется, а тут ему — и конец.
Зябко кутаясь в шерстяной платок и мелькая перед Оленькой то сердитым насупленным лицом, то взволнованной спиной, Шура кружилась в зеленоватом сумраке комнаты и говорила:
— Когда же мы скажем, когда? Сегодня, завтра, через месяц?
— Нельзя, это его убьет. Я скажу сама, — упрямо твердила Оленька.
— А мне прикажете что — уезжать или дожидаться, когда вам вздумается? И тем, замерзающим людям тоже дожидаться?
Маленькая Оленька, свернувшись комочком, сидела на табуреточке в темном углу и напоминала котенка, загнанного сильным и злым противником, но не желающего сдаваться. Она пофыркивала и сторожким недружелюбным взглядом следовала за Шурой, но вот Шура подбежала к Оленьке, схватив за худенькое, с проступающими костями плечо, сердито прохрипела:
— Я сегодня скажу. Как хотите, можете подготовлять его, можете не подготовлять!
Оленька выскользнула из угла на простор комнаты и повернула выключатель другой, большой лампы.
— Что вы, зачем, что с вами?! — забормотала Шура, приметив страх на лице девушки.
— А что с вами? У вас злющие глаза. Вы меня хотели ударить?!
Они стояли под светом, как пойманные воры, но успевшие принять невинный и честный вид, одна — вся красная от досады и злости, другая — испуганная и убежденная, что ее хотели поколотить.
Хлопнула наружная дверь, заскрипел пол под обледенелыми сапогами. Из Огуз Окюрген вернулся Елкин Он заметил на лицах женщин последние тени их недавних переживаний и спросил, придавая своему вопросу бόльшую, чем обычно, значительность: