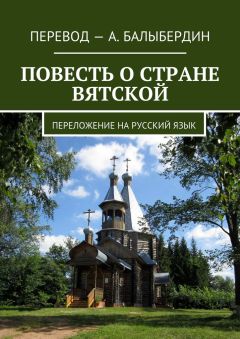— Усевич безбожно, вредительски запрашивает. Они эти буры перевезти не успеют.
— Он прав, меньше нельзя, — поддерживали Усевича его сторонники.
— А раньше чем бурили?
— Раньше в одну смену, а теперь будем в три. Раньше работали с простоями, а теперь морозы не дадут расстаиваться.
Новая гроза объявилась так неожиданно, что спокойно встретить ее никто не мог, перекличка захватила всех и перешла в перепалку, в ругню.
Председательствующий Широземов метался, отбрасывая на весь барак неуклюжую, танцующую нелепый танец тень, уговаривал и приказывал замолчать. Но его не замечали. Козинов не сдавался:
— Усевич преступно завышает! Его надо удалить с собрания, как смутьяна!
А противники старались заклевать Козинова:
— Он — не спец, говорун. Он идет против рабочих.
Гусев потребовал перекур, и Широземов кинулся в эту спасительную щель — объявил перерыв.
Под тревожный шумный говор ошарашенных людей, никогда не думавших, что буры, такая мелочь, могут задержать постройку, Елкин, Фомин, Козинов, Широземов, Гусев торопливо шептались за кулисой. В их распоряжении было пять минут, чтобы решить судьбу смычки.
— Пустить компрессор и проверить, сколько выйдет буров. Если, сволочи, завышают, арестовать за вредительство! — горячился Широземов.
— Не дело, не дело. — Фомин вертел головой, точно бык, намертво прикрученный к столбу. — Арестуешь, а в нашем положении на Турксиб больше никого не заманишь.
— Подписывай, подписывай! — Гусев совал Елкину карандаш. — Выкрутимся.
— Две с половиной тысячи в день на одну кузницу, на один штамп… — Елкин разводил руками. — Несбыточно!
— Они безбожно запрашивают, подписывай! — тормошил инженера и Козинов.
— Председатель, открывай! — крикнул браво Усевич. — Мы готовы. — За время перерыва он сильно увеличил круг своих сторонников.
— Принять весь запрос! Арестовать же, если понадобится, успеем. — И Фомин вышел на сцену, показывая этим, что больше не намерен колебаться.
В тишине, готовой взорваться от новых криков и гама, Елкин не громко, но отчетливо, с большим старанием проговорил:
— Ежесуточно каждый компрессор будет получать вплоть до ста пятидесяти буров. Можете оформлять соцсоревнование.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — выкрикнул Усевич.
Треск не всеобщих, но честных и радостно-громких аплодисментов взорвал тишину и смахнул тревогу испугавшихся, что буры и в самом деле могут задержать постройку.
Машина бежала ущельем Огуз Окюрген навстречу белобрысому ревущему вихрю. По сторонам, как падающие звезды, пропархивали огни бараков, палаток, землянушек. Слишком легкий кузов, сделанный не для горных дорог с крутыми поворотами и рытвинами, трещал всеми суставами и качался подобно бумажному змею, пущенному на произвол дикого ветра.
Шура держалась за скобу дверцы, стараясь уберечь себя от толчков и подбрасываний. Леднев пытался закурить, но всякий раз, когда вздувал спичку, машина, точно издеваясь над ним, подпрыгивала, и спичка гасла.
— Дорожка, она мне переломала все кости, — бурчал он.
— А вы совратили меня. Я вам очень благодарна! — отозвалась Шура с воркующим смехом и умолкла, зарывшись головой в бараний воротник тулупа.
Снежный вихрь последний раз попытался остановить машину, но был растоптан колесами. Последний утес отбросил на дорогу темную уродливую тень. И тихая, неоглядно-просторная равнина Доса, прикрытая полнолунным небом, приняла машину.
Леднев закурил, вытер перчаткой запотевшее стекло в дверце и негромко окликнул Шуру:
— Вы не спите? Ну, довольно сердиться, страдания закончились. Скажите, как вы изобразили меня?
— Лентяем и барином.
— Да-а… И все?
— А вы недовольны? — Лицо Шуры вынырнуло из глубины тулупа.
— Напротив. С такой характеристикой можно превеликолепно жить. Лентяй — это же не кулак! Барин по духу, по привычкам — это же в тысячу раз лучше, чем барин по отцу, по дедушке! Скажите, почему именно вы взялись за спасение разъезда? Вы ждали благодарность, повышение?
— Когда человек, которому доверили и платят за это спецставку, довел дело до того, что «глаза бы не глядели на него»… Я не хочу говорить об этом. Всем все понятно. И ваша гордыня, этакая барская снисходительность к нам противна.
— Вы ошибаетесь, никакой гордыни, а живейший интерес к моим современникам. Если хотите, искреннейшее сочувствие ко многим из них.
Шура попросила спички, вздула одну и осветила лицо Леднева.
— Зачем это? — спросил он.
— У вас такой подозрительно честный голос, можно обмануться.
— А лицо?
— Представьте, и лицо честное.
Леднев громко засмеялся. А когда затих, Шура спросила:
— Почему вы дали нам юрту? Помните?! Будьте прямы и грубы, если нужно! Что это было за расположение и к кому?
Леднев долго не отвечал. Прижавшись в угол, он попыхивал папиросой и колечками выбрасывал дым.
— Вы забыли обстоятельства? — спросила она.
— Помню.
— Не хотите отвечать?
— Отвечу. Дайте найти формулировку… Вы в некотором роде — моя любовь.
— Какая? Первая, не первая? — спросила Шура, смеясь. — Я не падка на всякую. Ну, продолжайте! Интересно.
— Не первая, — ответил Леднев, — но серьезная. Я назвал бы ее любовью некстати. Понимаете, что значит некстати? Вот приехали вы, муж — хороший парень, у вас с ним лад, и моя любовь вам не нужна. Потом этот несчастный выход на сцену, — тогда тем более не нужна. Точнее говоря, я и любил-то вас не ту, какой вы были, а какую-то иную, которую создала моя мысль. И вот любовь к выдуманной в какой-то степени переносилась и на вас, на реальную.
— Туманно. А теперь продолжаете или разлюбили?
— Я больше всего люблю мысль, а людей постольку, поскольку они питают ее.
— Какие же мысли?..
— Вы пробудили во мне? Это длинный разговор, и потом они вошли в мою общую систему, их трудно отделить.
Впереди начали выплывать из-за холмов созвездия оранжевых огней на Джунгарском разъезде. Леднев постучал в стекло, отъединяющее седоков от шофера, и крикнул:
— В Брехаловку!
Машина с задыхающимся, будто простуженным рокотом поднялась в гору и ткнулась в хрустящий снежный сугроб.
Гробов подбрасывал саксаул в печурку, Шура за фанерной перегородкой отмывала руки и шею, перенявшие чернь дубленого тулупа. Леднев грел иззябшие руки. Примолкшие машинисты глядели на его согнутую вздрагивающую спину и многозначительно перемигивались. Отмывшись, Шура вышла к машинистам и спросила:
— Вы что собрались?
— Холод загнал, холод, — ответил Гробов. — Брехаловка — одна-разъединственная теплая точка на всем разъезде. Оно конечно, Адеев и Усевич топятся, только мы туда не вхожи. Товарищ Леднев, может, скажешь, зачем ты пожаловал к нам? — Гробов налил два стакана чаю, подал Шуре и Ледневу. — Пейте, и докладывать! Мы тут к «нет» подошли, к самому «нет». Завтра экскаваторы, компрессоры, тепловозы гукнут последний раз — и прощай. Товарищ Леднев, выходит, остается? Поздновато заимел такую охоту. Лишку на утек глядел.
— Нашел время считаться, — недовольно забурчали машинисты.
— Самое время: наш начальник такой укор заслужил. А беречь его — он не дитятко!
— Я продолжаю быть начальником этой дистанции, в том числе и этого разъезда. — Леднев расстегнул пальто и сел к столу. — Я хочу обсудить с вами, как вывести разъезд из затруднительного положения. — Он рассказал о последнем совещании в управлении участка и, заикаясь, признался. — Я не представляю, как мы справимся. Я, Гробов прав, готовился к уходу и точно даже не знаю, каковы дела на разъезде — рабочая сила, материальные ресурсы, настроения людей.
— А вот каковы. — Гробов сердито фыркнул в сторону Леднева. — Дров у Адеева в коридорчике кучка, в юрте Усевича кучка, около Брехаловки в снегу одна-две коряги, — и все. Столовая закрылась, люди третий день лопают ледяную воду из ручья и посылают все к черту.
— Выход, товарищ Гробов?
— Тебе лучше знать. Я не начальник, моя колокольня маленькая. Я сам человек запятнанный: выпиваю.
Леднев начал перелистывать записную книжку. Он ничего не искал, попросту ненужным перелистыванием затушевывал свою растерянность. Машинисты молчали.
— Значит, безнадежно? — Леднев оглядел всех по порядку.
Ему ответил громкий треск бревна в стенке, разорвавшегося от мороза.
— Товарищ Грохотов, товарищ Грохотова, вы… — Леднев не договорил, ему показалось, что он, согласившись остаться на разъезде, сделал непоправимую глупость. Будь он тверд, не было бы этого унизительного для него разговора. Леднев встал, начал застегивать пальто.
— Постой, не горячись! — Гробов потянул его за рукав к скамье. — Дай подумать! Мы тут по-один вечер загадывали загадки, кто бы что сделал, если бы его назначили начальником разъезда. Колька, по-моему, разгадал лучше всех. Ну, говори, Колька!