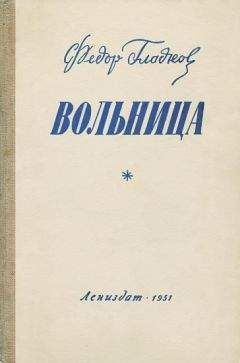И Гаврюшка рассказал мне, что произошло после многолюдной встречи хозяина.
В просторной комнате оба богатея развалились в креслах, а около стола уже захлопотали женщины в белых фартуках: ставили закуски, бутылки, белый хлеб и всякие сладости. А тощенький управляющий стоял перед ними почтительно, как слуга. За ним стояли Матвей Егорыч с Гаврюшкой, а поодаль от них — подрядчица. Гаврюшка видел, как принесли в прихожую несколько ящиков и круглых корзин и решёт, обшитых сверху коленкором.
Хозяин стал расспрашивать управляющего о делах — об улове, о сортовой рыбе и одобрительно мычал, когда управляющий доложил ему, что идёт постройка нового лабаза и новых больших чанов, что резалок и рабочих маловато, и все они заняты сверхурочно до позднего вечера. И тут же рассказал, как резалки однажды взбунтовались против подрядчицы и бросили работу. Он, управляющий, хотел вызвать полицию, но вмешался в этот скандал Матвей Егорыч и с пьяных глаз разыграл с ними комедию: правда, он увёл их обратно на плот, зато сконфузил перед ними подрядчицу, о чём она со слезами жаловалась на него. Управляющий недоволен плотовым: Матвей Егорыч хотя и мастер своего дела, но пьёт и часто не выполняет приказаний управляющего — вот хотя бы в случае с бунтом резалок. Вместо того чтобы послать за полицией и арестовать смутьянок, он с ними начал балагурить, надавал им обещаний и вместе с ними пошёл на плот. Хозяин спросил:
— Ну, так что же резалки-то — опять сели на скамьи?
— Да, конечно, работали.
— Значит, и без полиции обошлось?
— Это так, Прокофий Иваныч, но нельзя спускать рабочим их своеволия, нужно было хорошенько проучить их арапниками, чтобы впредь неповадно было.
— Дело, дело, управляющий! Правильно: недопустимо, чтоб у меня на промысле бунты устраивали. А ещё хуже, управляющий, ежели полиция будет рыскать по промыслу, расправы устраивать над рабочими да арестовывать их. Подумал ты, какая слава пойдёт по Каспию да по Волге? У купца первой гильдии Пустобаева на промыслах бунты происходят, полиция распоряжается — порет рабочих арапниками и отправляет их в острог. И выходит, что плотовой мудрее тебя: он о хозяйском интересе позаботился в первую голову, честь моего торгового дома соблюл да и в убыток не ввёл. А ну-ка, подрядчица, говори, почему у тебя резалки взбунтовались?
Подрядчица заулыбалась и застрекотала умильно, но с возмущением:
— А штрафы им не нравятся, Прокофий Иваныч, и всякие строгости. Они очень хотели бы и контракты порвать.
Бляхин опять захохотал, подошёл к столу и налил себе стаканчик водки, выпил и опять налил.
— Ну, и девки у тебя, Прокофий! Окаянные! Сто сот стоят. Василиса опытная — по Астрахани знаю.
А хозяин зверем посмотрел на него и застучал пальцами по толстой коленке.
— Да. Окаянные. Вот и двугривенные мои, как сор, на земле лежали. Кто-то там действительно мутит их. И хозяина не величали, как в прошлые годы. Говори, плотовой, в чём тут загвоздка?
— Бляхин опять загорланил: — Брось, Прокофий! Эти твои загвоздки с бухты-барахты не решишь. Всякими загвоздками только в трезвом виде занимаются. А мы с тобой пьяные. Василиса!
Подрядчица подскочила к нему, стала приседать и играть глазами.
— Счастьем считаю послужить вам, Кузьма Назарыч, себя выверну, а всё сделаю для вашего удовольствия.
— На кой чорт ты мне нужна, вывернутая! Ничего, кроме мерзости, внутри у тебя нет. Ты лучше устрой нам сегодня пир горой и девок пригони.
Подрядчица вся таяла от улыбочек и угодливо тряслась перед ним.
— Сколько прикажете, столько и приведу. Я знаю, кого вербовала.
Подрядчица легкокрыло выпорхнула из горницы, а хозяин ткнул пальцем в дзерь и приказал Матвею Егорычу:
— Ты, Матвейка, догляди за этой бандурой: как бы она нам гнилой товарец не подсунула да как бы обеими лапами в карман не залезла. Она давно наловчилась бабьим мясом торговать.
Гаврюшка почувствовал, как вздрогнул отец и как невольно сжал его руку. Матвей Егорыч вежливо, но с достоинством ответил:
— Я, Прокофий Иваныч, знаю, как доглядать и готовить сортовую рыбу и паюсную икру, а не бабье мясо. С этой человечьей падалью дела не имею. У меня седой волос в голове: и вам я, кажется, уж не Матвейка.
Хозяин вскочил, вытаращил глаза и затопал ногами.
— Матвейка! С кем говоришь?
Но Матвей Егорыч не смутился, только отшагнул от хозяина подальше.
— Прошу на меня, Прокофий Иваныч, не кричать: я вам — не шестёрка. Я плотовой, отменный мастер на всём взморье. Горжусь этим.
Управляющий укоризненно покачал головой, отступил в сторону и с усмешкой сказал:
— Вот вам, Прокофий Иваныч, доказательство: не без его влияния и работницы безобразничают. С ним работать очень трудно. А почему он с вами непочтителен? Потому что пьян. На него и жена жалуется.
Хозяин повернул к нему опухшее лицо и затрясся от хохота.
— Да бабы-то всегда на мужьёв жалуются. Образованный, а не знаешь этого. У тебя у самого, красавца, жена-то сбежала и письма мне жалобные пишет.
Хозяин вцепился в локотники кресла и весь устремился к Матвею Егорычу. Глаза его помолодели.
— Хорошо, Матвей Егоров! Хвалю! Самолюбец! Не побоялся за себя постоять перед хозяином. По праву гордишься, плотовой: моя рыба и икра славятся по всей Европе. К царскому столу мои балыки, осетры, икра подаются. А всё-таки, отменный мой плотовой, я вытурю тебя с волчьим билетом — за дерзость и неблагодарность. Я тебя человеком сделал, а ты нос задираешь, своим норовом живёшь, с бабами бунты устраиваешь, управляющего, подрядчицу в грош не ставишь. Да вот и на меня псом лаешь.
Матвей Егорыч спокойно и вежливо возразил:
— Волчий билет для меня, Прокофий Иваныч, вроде как мыльный пузырь: не долетит до меня — лопнет. Волком я не буду: меня везде работа ждёт. А человека-то вы с моим тестем давно во мне искалечили. Пью я, верно: от этого и пью. Может быть, вы, Прокофий Иваныч, достойнее и благороднее меня в тысячу раз, а вот мальчика моего не стесняетесь: всякие при нём непотребности выражаете. С тем и прощайте, хозяин. Пойдём, Гаврюха! Концы нам отдали, и от пристани мы отчалили.
В этот момент Гаврюшка и напал на хозяина. Когда они с отцом выходили из комнаты, хозяин так стукнул кулаком по столу, что зазвенела посуда.
— Дурак! Огрызок человечий! Бродягой сделаю! Заставлю шататься по России. Пристанища не будет тебе ни на земле, ни на море… В ногах у меня будешь валяться, а я тебя растопчу.
По дороге Гаврюшка смеялся и плакал.
— Папаша! Я с тобой на край света пойду… Лучше тебя никого нет… Я так тебя люблю, так люблю… Папаша!
И целовал его руку.
— Ничего, Гаврюха, свет не клином сошёлся. Человек везде найдёт себе место: работы человеку много. Я ещё никогда так не радовался, как сейчас… словно камень с себя свалил.
И когда рассказывал об этом Гаврюшка, он как будто стал сильнее и выше. Глаза его горели, и он весь сиял от гордости за отца.
— Я жил среди взрослых людей, делил вместе с ними и горе, и веселье, думал их думами, возмущался и бунтовал вместе с ними. Я хотел работать, чтобы помогать матери и добывать свой хлеб, а меня подрядчица пыталась заставить работать даром. Я гордился, когда приказчик дал мне рыбину за мою работу на арбе и когда кузнец однажды повёл меня в хозяйскую лавочку и сунул мне в фунтике немного муки и осколок сахару. Этот подарок мне был особенно дорог: ведь Игнат сам нуждался, и у него на руках была больная Феклушка.
Я уже хорошо знал, кто был наш враг, кто выматывал силы у резалок и вынуждал их быть послушными и безгласными рабынями. Даже меня, парнишку, обижали и издевались надо мною, и мстительная злоба впервые отравила моё сердце. Она росла вместе с жалостью к матери, к Наташе, к Марийке, к Феклушке, к Гале… Я остро ненавидел и подрядчицу, и управляющего и мучил себя вопросами: почему эта отвратительная баба распоряжается целой толпой женщин, обворовывает и обманывает их? почему управляющий за справедливое возмущение резалок хотел пригнать полицию, чтобы избить их арапниками? почему эти жадные и подлые люди властвуют и держат всех под гнётом, как арестантов? Я не мог ответить на эти вопросы: они были непосильны для моего ума, но я чувствовал правду и догадывался о жестоком смысле людских отношений.
Я чувствовал, что в нашей жизни копится что-то тревожное, и видел, что все ожидают неизбежной борьбы. Женщины собирались кучками, беспокойно перешёптывались, опасливо поглядывали на дверь в комнату подрядчицы, и лица у них были озабоченные и задумчиво-злые.
Мать с Марийкой всё время подбегали к Прасковее и Оксане и молча, преданно ловили каждое их слово. Они волновались, им было жутковато, но каждая из них по-своему выражала свои чувства: мать часто хваталась за сердце от смутного ожидания, а Марийка с жарком в доверчивых глазах ликовала, словно готовилась к какому-то бурному празднику, который она ждёт давно. Наташа тоже сидела на нарах Прасковеи и невозмутимо занималась вышиванием. Галя опять повеселела, в синих умных глазах её откровенно играла вызывающая решимость. Те женщины, которые терялись в общей массе и были для меня ничем неприметны и странно безлики, сейчас казались мне новыми, словно чисто вымылись и посвежели. Они, как близкие подруги, подходили к Прасковее и вполголоса разговаривали с нею и с Оксаной. Все горячились, спорили о чём-то, а потом смеялись и отходили возбуждённые.