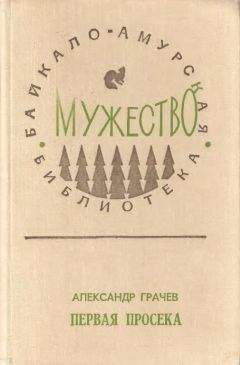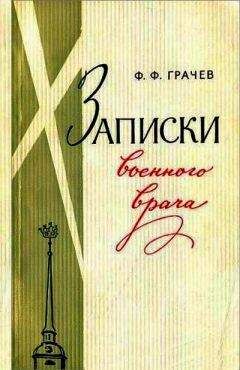Вот почему не Архипа Рогульника, а именно Пригницына решил Ставорский двигать вперед — в комсомол, а потом, может статься, и в партию. Так Колька очутился сначала в ликбезе, а потом и в вечерней школе-семилетке. Недюжинные способности очень скоро выдвинули Пригницына в число лучших учеников. За пять лет работы на стройке Комсомольска он закончил семь классов и стал лучшим бригадиром возчиков — его имя как ударника часто можно было видеть на страницах газеты.
Все эти годы Ставорский не подвергал его преждевременному риску.
Но за последнее время он все чаще замечал в поведении Пригницына нечто новое: цыганенок становился слишком самостоятельным в своих суждениях; даже признаки высокомерия нет-нет да и проявлялись в его поступках. А недавно Ставорский и вовсе насторожился: Пригницын не явился к нему по вызову в штаб военизированной охраны. Пришлось прибегнуть к опасной инсценировке — послать за ним вооруженного винтовкой Рогульника. Когда тот привел его в штаб ВОХРа, Ставорский долго молчал, смерил его взглядом.
— Почему не явился вчера по вызову? — наконец спросил холодно.
— Ездил на завод, Харитон Иванович, а когда вернулся, было темно, решил, что вас уже нет в штабе.
— А почему сегодня с утра не явился?
— Харитон Иванович, так вы же вызывали не на сегодня, а на вчера, — с наигранным изумлением ответил Пригницын.
В этот же день Ставорский проверил, действительно ли ездил Пригницын на завод. Оказалось, что никуда он не ездил. Это открытие взбесило и насторожило Ставорского.
О своем открытии он не сказал Пригницыну. Выгоднее было оставить его в неведении. Но с этого дня каждый шаг цыганенка был под наблюдением доверенных людей.
Вскоре Ставорского вновь насторожила речь Пригницына на городском комсомольском активе, посвященном разоблачению врагов народа. В ней было столько неподдельного гнева, что Ставорскому стало страшновато — он боялся услышать свое имя!
Потому так трудно было теперь решить: доверить или не доверить Пригницыну эту диверсию — самую крупную и самую рискованную из всех организованных за пять лет на стройке.
Долго в ту ночь светилось окно в итээровском поселке на Аварийной сопке. С ладонями, засунутыми под лямки подтяжек, Ставорский бесшумно ходил по комнате — пять шагов туда, пять обратно. И только тогда погасил свет и лег в постель, когда план «операции» был продуман до мельчайших подробностей.
В осенний ведренный день прислушайся к шуму стройки. Ты уловишь какое-то своеобразное, ритмичное чередование и постоянство одинаковых звуков. В первую минуту они покажутся хаотическими, но вслушайся в них — и ты уловишь в гудках паровозов, в грохоте бетономешалок, в завывании циркульной пилы, в шуме автомашин, в стуке топоров, в мощном дыхании ТЭЦ слаженную мелодию, напоминающую мощный оркестр. Это звуковой ритм стройки, симфония труда.
Пригницын давно полюбил ее. Едет человек в телеге, мирно клацают колеса, цокают по насыпной гравийной дороге подковы лошади, а он слушает звуки стройки и угадывает по ним, что и где происходит. И думает, думает… О, сколько же передумал, узнал и испытал Пригницын за эти пять лет! Ликбез, семилетка, комсомол… На свою голову Ставорский «проталкивал» вверх диковатого цыганенка. Пригницын прозрел. А прозрев, увидел огромный светлый мир, лежащий вокруг. И еще он понял, что Ставорский становится все более враждебным, опасным ему.
Под передним сиденьем телеги Пригницын поставил рундучок, и там всегда у него хранились книги, учебники, тетради. Они не залеживались без дела. Когда в вечерней школе начали изучать алгебру, он увлекся решением алгебраических задач. Едет и решает. Весь задачник почеркал. Потом его страстью стало заучивание стихов. Найдет газету со стихотворением или сборник стихов и вот уже бормочет весь день.
— Ой, Колька, как ты мне надоел со своими стихами! — жаловалась поначалу Любаша. Но потом привыкла и уже сама просила почитать новые стихи.
Недавно Пригницыну попались «Цыганы» Пушкина. Несколько дней он ходил словно в угаре — до того потрясла его эта поэма. Прозрение души — так можно было бы коротко выразить словами то новое, что вторглось в некогда убогий, по-звериному жестокий мир забитого цыганенка. Свет этот отражался на его лице. Пригницын стал мечтать! Он жил теперь захватывающими думами о своем будущем. Больше всего ему хотелось стать поэтом. Но стихи никак не давались ему, и он с досадой и горечью рвал бумаги.
Потом им овладела мечта стать следователем. Он хотел бы вылавливать вот таких зверенышей, каким был сам еще недавно, и делать из них таких, каким он стал теперь. Но всякий раз, когда мечты уносили его в будущее, мысль о Ставорском гасила их жар.
После убийства Кирова Ставорский притаился. Он дал указание своим подшефным не предпринимать никаких действий. Так тянулось года полтора. Потом поджог склада с импортным оборудованием. Пригницын подозревал, что это дело рук Рогульника. С содроганием сердца ожидал Пригницын задания, поэтому избегал встреч со Ставорским. Но в минуту мучительных раздумий его внезапно осенила мысль, которой он ужаснулся и обрадовался.
Пригницын вспомнил свою короткую, нескладную жизнь. Сколько способов перебрал он для того, чтобы покончить со своим прошлым! И нашел. Это был его приговор себе, Ставорскому, Рогульнику, всему страшному прошлому. Но как это сделать? Малейший просчет, и он получит либо нож в спину, либо пулю в затылок.
И вот встреча с Рогульником. Она насторожила, вызвала какой-то неприятный озноб во всем теле. Рогульник вскочил к нему в телегу, когда Пригницын ехал по набережной.
— Придется нынче задержаться тебе, Колька, на работе… Харитон Иванович велел.
— Что такое?
— Да вот тут цемент краденый надо отвезти на комбинат, а потом съездим по сено для лошади Харитона Ивановича.
— А наряд выписал?
— Завтра выпишем.
— Без наряда не поеду.
Рогульник не сразу нашелся, что ответить на вызывающий тон Пригницына. Он молча похлопал хворостинкой по голенищу сапога, расстегнул ворот гимнастерки, наконец глуховато сказал:
— Шибко брыкаешься, Колька. Как бы худо тебе не было…
Снова помолчал. И докончил:
— Не забыл, что говорили там, в Харбине?
— Ладно, — скучно сказал Пригницын. — Но завтра обязательно чтоб наряд был.
— Это сделаем.
У землянки их встретил Савка Бормотов.
— А я уж думал, не приедете, робятки, — лебезил он. — Вот как я его, воришку-то, выследил. Ишь чего надумал — цемент красть, социалистическую собственность хитить! Ну, не мешкайте, не мешкайте, погружайте. Да аккуратней, не рассыпьте, кули-то бумажные.
Пригницын сердито подхватил за углы мешок, рванул его вверх.
— Тише ты, чтоб тебе! — в исступлении зашипел на него Рогульник. — Уйди! Без тебя погрузим. Давай, Савелий!
Наблюдая за тем, с какой трусливой осторожностью носили мешки Рогульник и Савка, Пригницын вдруг почувствовал холодок на спине. «Неужели взрывчатка?» — мелькнула мысль. Вдруг все стало понятным: и то, что «ворованный цемент» вывозит именно он вместе с Рогульником, да еще по поручению Ставорского, а не милиции; и то, что Савка так лебезит; наконец и то, что после рейса на комбинат они должны ехать за сеном в тайгу — замести следы.
Впервые в жизни ему стало страшно. Страшно за себя, за Любашу, за стройку — за все то светлое, что было приобретено с такими муками и что теперь составляло главный смысл его жизни.
Где-то на полпути к комбинату Пригницына осенила мысль — сделать маленькую дырку в боку бумажного мешка и проверить свои подозрения. Кнутовищем он незаметно царапал мешок под собой до тех пор, пока там не появилась пыльца. Желто-белая… Ясно — это не цемент! «Почему же скрывают от меня? Не доверяют?»
Мысль работала лихорадочно. «Надо, чтобы с поличным… — размышлял он. — Подожду удобного момента, лучше сразу же после разгрузки».
Рабочий день на строительстве уже закончился, у проходной будки стоял один вахтер, когда туда подъехала подвода с мешками. Рогульник спрыгнул с телеги, что-то сказал охраннику, и тот махнул Пригницыну: «Проезжай!» Сам Рогульник остался у ворот. Во дворе комбината на телегу к Пригницыну вскочили двое в брезентовых куртках.
— Цемент?
Пригницын покосился на них, но ничего не ответил. Они даже не обратили на это внимания.
— Правь к главному корпусу. Вон, к углу.
Пока сгружали мешки, Пригницын заметил Ставорского. И больше нигде никого.
— Поехали, — скомандовал грузчик, когда мешки исчезли в люке теплотрассы, и прыгнул в задок телеги. Он сошел лишь тогда, когда на его место сел Рогульник.
Холодок пробежал по спине Пригницына — как бы студеное дыхание Рогульника. «Поеду по Пионерской, там людно, что-нибудь придумаю». Но Рогульник, словно подслушав его мысли, коротко сказал: