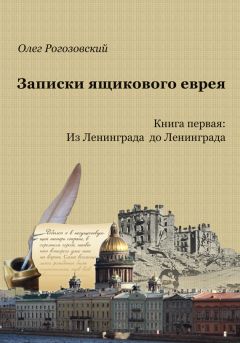Заготовки для тапочек лежали у него по всей каюте. Он один снабжал всех покойников Камчатки.
Его любимой фразой-присказкой была такая: «А вы знаете, что Пугачева четвертовали в возрасте всего-навсего тридцати двух лет?» Ему нравилось, что Пугачев потрясал Российское государство в нестаром еще возрасте.
Мой первый голова корабля, капитан третьего ранга Гашев, Зосима Петрович, органически не мог видеть в руках у подчиненных постороннюю книгу.
Гашев невзлюбил меня с первой встречи. Виноваты оказались: байковые теплые кальсоны, выданные мне после окончания училища бесплатно, собственный мой подстаканник, на ручке которого изображен был малаец, но больше всего — книги.
Я был назначен командиром боевой части «один» и «четыре» на аварийно-спасательное судно Северного флота.
Семь лет меня учили воевать, то есть ставить мины, стрелять торпедами, швырять глубинные бомбы, управлять артиллерийским огнем. И, естественно, я знать не знал, как надо спасать. В эту нехорошую ситуацию меня, как водится, завел длинный язык.
Был одна тысяча девятьсот пятьдесят второй год.
Когда я нашел свой корабль, командира на борту не оказалось, и представиться ему я не смог. Вахтенный офицер показал мою каюту. Бортовая стенка каюты заросла инеем. Судно строили в Америке, и оно не было приспособлено для работы в высоких широтах. Горячий воздух поступал в каюту из раструба отопления в подволоке. Известно, что горячий воздух легче холодного, поэтому он вниз не опускался. Если ты стоял, то дышать было нечем. Если садился, вокруг блистал иней.
Я распаковал чемодан, вытащил казенные кальсоны, вдел одну штанину в другую, пояс кальсон обвязал вокруг раструба отопления, а к нижним тесемкам привязал тяжелую настольную лампу.
Теперь теплому воздуху некуда было деваться, он мчался сквозь кальсоны почти до пола и только после этого поднимался вверх.
Я был очень доволен собой, своей молниеносной находчивостью, так необходимой настоящему моряку. Я смотрел на пульсирующие под давлением в три атмосферы кальсоны. Они шипели и трещали по швам, но иней послушно таял.
Когда человек начинает первый день самостоятельной морской жизни, он, конечно, испытывает страх перед неизвестностью, растерянность и острое желание увидеть маму, залезть к ней под фартук. Так как мама далеко, то следует заменить ее каким-либо собственным волевым действием. Утвердить себя в себе. Я это сделал при помощи казенных кальсон. И занялся дальнейшей разборкой чемодана, рассматриванием разных вещичек и книг, которые насовали родственники и друзья на память.
Я выставил на стол серебряную трехвершковую Венеру Милосскую — подарок жены брата. Подстаканник с малайской физиономией — подарок тети. «Атлас офицера», весом в пять килограммов и абсолютно бессмысленный, ибо, кроме схем обороны Царицына, там ничего не было, — подарок баскетболистки, которую я было хотел полюбить, но она полюбила другого. Когда другой ее бросил (за дело), я ее утешал. И она при расставании всучила мне пять килограммов меловой бумаги и схемы обороны Царицына.
К оттаявшей стенке каюты над столом я прикрепил фотографию Любы Войшниц — популярной в те времена балерины Мариинского театра в роли Тао Хоа из «Красного мака». Войшниц подарила мне мама. Она еще дала мне иконку Николы Морского и велела никогда с Николой не расставаться.
Я сидел, раскисал от воспоминаний, от тепла, от желания победить в себе страх перед завтрашним неизвестным днем, когда, быть может, мне надо будет вести корабль в море на спасение гибнущих людей, а я ровным счетом ничего еще не умею и не знаю.
Уже за полночь дверь каюты раскрылась, без стука, конечно, и вошел мой первый капитан. Он оказался очень маленького роста, очень некрасив, в фуражке, хотя все уже давно носили шапки, в канадской куртке с разорванным капюшоном, в меховых перчатках, причем эти перчатки были такие большие, что казалось, он может использовать их как непромокаемые сапоги. Ему было за пятьдесят, лицо его было круглое, густо, асимметрично покрытое морщинами.
— Чего это вы здесь делаете, лейтенант? — спросил он меня и ткнул пальцем в пульсирующие кальсоны. Я представился и объяснил, что при помощи кальсон равномерно обогреваю каюту.
— Убрать! — сказал он.
Я, как и положено, сказал: «Есть!» — и, обрывая завязки, демонтировал отопительное сооружение.
— А это что такое? — спросил он, показывая на подстаканник.
— Подстаканник, — ответил я.
— Первый раз вижу человека, который идет служить, имея собственный подстаканник, — сказал он.
— Подарок друзей, — объяснил я, не решившись сказать слово «тетя».
— А я вас не спрашиваю, чей это подарок, — ответил он и ткнул пальцем в книги. — А это что?
Книг было много. Я надрывался, когда тащил чемодан по Мурманску к Каботажной пристани.
— Книги, — сказал я.
— Так ты что — приехал книги читать или служить? — спросил он меня.
Я пробормотал, что надеюсь делать и то, и другое.
— То, на что ты надеешься, меня мало интересует, — сказал он. — Я могу дать гарантию, что ты будешь делать что-либо одно.
— Есть! — сказал я.
— За какие грехи ты сюда попал? — спросил он. А я и сам еще не знал, за какие грехи попал на корабль аварийно-спасательной службы Северного флота. Это было довольно мрачное место в те времена. На спасательные корабли списывали хулиганистых матросов и самых нерадивых офицеров с боевых кораблей. Служить на спасателе означало, что следующим этапом, возможно, будет тюрьма или демобилизация.
— Ну вот, — сказал Гашев. — Все знают, за что они сюда попадают, а ты не знаешь, хотя книжки читаешь.
И мне почудилось, что он уже кое-что выяснил про меня, что он уже прочитал мое личное дело и теперь знает обо мне даже больше, чем я сам.
— А моря вы боитесь? — спросил он, переходя на «вы».
Я сказал, что еще не мог проверить себя и не могу заявить ничего определенного.
— Ну, спи, — сказал он и ушел.
А я остался сидеть за столом и глядел, как растаявшая было изморозь на переборке опять начинает выступать на металле.
Я понял тогда, что служить будет тяжело; правда, я и раньше догадывался об этом.
Зосима Петрович был одним из лучших командиров аварийно-спасательных кораблей; с детства на море, человек трудной судьбы, одинокий и злой. Ему пришлось восемь раз в период военных действий тонуть. Его корабли подрывались на минах, их топили подводные лодки или штурмовики. Никакой вины за это на Гашеве не было и не осталось, ему просто не везло.
Но, будучи суеверными, моряки, получая назначение на судно, которое Гашев должен был вести в море, боялись и по-всякому отлынивали.
Роковая невезучесть может испортить характер любого человека.
Быть может, Гашев после войны стал спасателем именно потому, что ему много раз пришлось бороться за живучесть тех кораблей, которыми он командовал.
У него было сугубо личное отношение к морю. Они еще не сквитали долг друг другу.
Превратившись в профессионала-спасателя, он каждым спасенным судном доказывал морю свою силу и заставлял море уважать себя.
А может, я все это выдумываю или преувеличиваю.
Гашев был плохим воспитателем, так как забыл времена, когда знал профессию недостаточно хорошо, когда, как любой молодой моряк, сам допускал ошибки в сложные моменты. Он не считал нужным забираться в психологию подчиненных и просто требовал от них на том уровне, на котором требовал от самого себя. Его раздражало, когда молодые спрашивали объяснение того или другого маневра, того или другого поступка.
Про него говорили, что это человек, который может пройти под своим собственным буксиром. Представьте, что по морю идут два судна. Первое тащит на тросе другое. Так вот, про Гашева говорили, что если он командует первым, то может развернуться и пройти под тросом, то есть под своим собственным буксиром.
Когда так говорят о моряке, это значит, что ему отдается высокая почесть.
Главное, что я понял, наблюдая своего первого капитана, его правило: «Конечно, люди всегда помогут, но, если ты пошел в море, знай, что ты должен уметь надеяться только на самого себя. Ты должен знать свое дело и принимать на себя любую ответственность. И когда ты принимаешь на себя ответственность, забудь о том, что кто-то может тебе помочь».
Моим вторым капитаном был Василий Александрович Трофанов, старый помор, практик, без специального образования.
Василия Александровича в приказном порядке назначили почетным членом Мурманского отделения Всероссийского общества охраны природы. Природу Василий Александрович никогда не обижал и назначение исполнял даже с гордостью, обязательно участвовал во всех сессиях, но у него был один бзик. Когда Василий Александрович выпивал, то делался болезненно подозрительным и страдал даже какой-то манией отмщения.