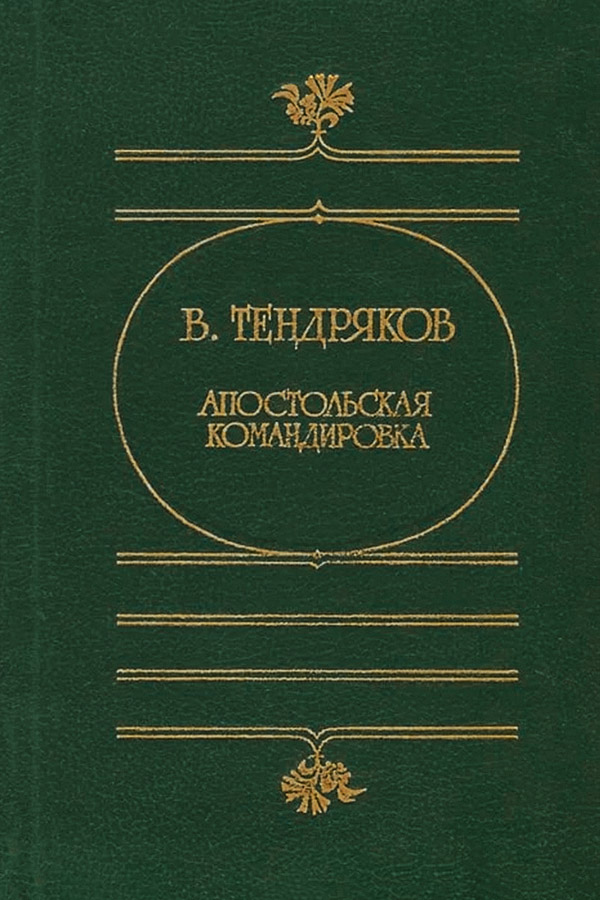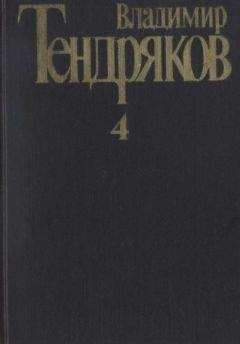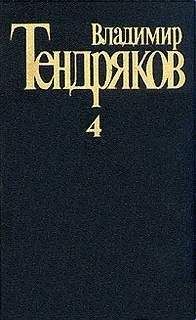хромает. В Москве, видать, таким идейно хромающим не сладко приходится, значит, давай к нам, в Красноглинку. Тут, мол, народ лаптем шти хлебает, возле них мило-дорого заживу. А неужели, товарищи, мы такие простачки, что гнилой гриб от здорового на глазок не отличим? И навряд ли нас испугаешь чуждой пропагандой, выслушаем и не угорим. И сейчас нам, товарищи, стоит попросить этого столичного гостя: выйди, покажись, мы поглядим да послушаем…
— Пос-лу-ушаем!
— Про-оси-им!
— Что же, Рыльников, выйди, выверни, так сказать, нам свое нутро наизнанку.
— Эй ты! Кажись! Не прячься!
Крик по всему залу. А рядом со мной, как ужаленный, взвился Гриша Постнов:
— На свет мракобеса! На люди! Вышибай из него господа!
— Требуем! — загудел мой сосед в синей фуражке.
— Товарищи! — поднял костлявую узкую руку Ушатков. — Тихо! Без паники! Рыльников, народ требует! Выходи, чтоб не где-то за углом, не шепотом, а в глаза нашему красноглинскому народу…
— Иди добром, хуже будет! — Гриша Постнов весь подобрался, глаза колючи, щеки пылают — вот-вот вцепится в грудь.
И прямой, остроплечий Ушатков, взирающий на меня с высоты председательского места; и неловко поеживающийся, смущенный столь крутым оборотом лектор, старающийся глядеть мимо меня; и Гриша Постнов с товарищами; и недоброжелательно грозный гул людей за спиной… Надо выходить, будет хуже.
Я встал и двинулся к лесенке, ведущей на сцену. Тишина в зале, тишина, только слышно дыхание людей.
На верхней ступеньке я споткнулся, и кто-то засмеялся в зале. Еще этого не хватало, чтоб стать посмешищем. И смех вызвал злость. Стараясь ступать как можно тверже, я прошел к трибуне.
Я почему-то ждал, что зал набит до отказа, что народ передо мной предстанет монолитно единым, а зал наполовину пуст, населен с прорехами, и конечно же людей, сидящих в нем, не так уж интересует религия, танцы больше. И все-таки лица — отсюда смытые, без выражения — пугают. Лица, лица и разбросанные по залу светлые косыночки на плечах «Пусть всегда будет мама!».
Я, наверное, стоял долго, тишина стала заливаться ехидным шепотком и шушуканьем. Пора начинать.
— Ну поглядели? — спросил я. — Глядите — вот как выглядит мракобес. Наверное, примерно так же, как в старые времена еретик, — с рогами на лбу, с копытами на ногах.
В зале засмеялись. И Ушатков сердито постучал по графину:
— Без шуточек! Без шуточек! Серьезно!
— А я со всей серьезностью, товарищ Ушатков. С серьезностью и с готовностью, как видите. Предлагаете, чтоб я вывернул свое мракобесное нутро, — пожалуйста! Готов! Выверну, если подскажете, как это делается.
За время серьезной лекции зал осоловел, истомился, он ждал развлечений, потому свирепо кричал: «Вытащить!» Ради развлечения готов был на жестокость. Но и я предлагаю развлекаться, зал и со мной согласен — почему бы и нет? Смешки и шевеление в зале. Ушатков стучит по графину.
— Для начала скажите нам, — произносит он, — согласны ли вы с лекцией?
— Нет, далеко не во всем.
Смех и шевеление разом кончились.
— Так! Выкладывайте, с чем именно?
— Ну хотя бы с тем, что бессмертия души не существует. Я считаю — есть бессмертные души!
Кто-то из глубины зала выдавил из себя насмешливо трубное:
— Ну-у!
Лектор Лебедко поглядел на меня с брезгливой иронией. Что же, выручай, Бехтерев!
Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами,
Где нужно действовать умом,
Он только хлопает ушами, —
прочитал я.
— Что это?!
— Это, товарищ Ушатков, частица души человека, умершего сто пятьдесят лет тому назад.
— По чьему адресу такие слова?
— Надеюсь, не по вашему. Сто пятьдесят лет назад вас еще не было на свете… Товарищ лектор, помогите убедить мне товарища Ушаткова, что стихи — это духовное проявление человека, так сказать, выражение его души…
Лектор ничего мне не ответил, он откинулся на стуле и сердито розовел. Похоже, что и он, как Ушатков, принял стихи на свой счет.
— У известного русского ученого Бехтерева, — продолжал я, — есть сочинение, которое называется: «Бессмертие человеческой личности с научной точки зрения». Прошу обратить внимание и уважаемого лектора, и всех здесь присутствующих на слова — «бессмертие личности», и не просто, а с «научной точки зрения». Известный ученый утверждает, что духовная сторона человека никогда не исчезает бесследно, а живет в потомках. Так вот, более ста пятидесяти лет тому назад некий человек, Гаврила Романович Державин, потратил свою духовную энергию, написал это стихотворение. Сам он умер, а его духовное, частица его души продолжает жить и сейчас среди нас. Тут я смог назвать, чья это душа, в большинстве-то случаев духовное продолжает жить безымянно. Вот вы, товарищ Ушатков, сидите за столом, а кто-то впервые затратил духовную энергию на догадку — поставить на четыре ножки столешницу. Неизвестно, сколько тысяч лет назад умер тот человек, забыто его имя, истлели его кости, а его духовное, выраженная частица его души живет среди людей в виде материальных столов, за которыми едят, пьют, работают, заседают. И что бы мы ни взяли, чего бы мы ни коснулись, всюду наткнемся на живущие души давно умерших людей. И графин с водой, о который сейчас вы вызваниваете карандашиком, товарищ Ушатков, сам карандашик, пиджак на ваших плечах, кусок хлеба, съеденный вами за обедом, — все эти вещи состоят не только из ощутимой материи, но еще из духовного проявления давным-давно умерших людей. Мы, сами того не сознавая, живем среди распыленных по частям бессмертных душ. Они, эти бессмертные, не прозябают в раю, они среди нас и умрут тогда, когда умрет все человечество…
Но Ушатков уже давно звенел по графину. Он поднялся, небрежно махнул мне рукой:
— Садитесь!..
— Но я бы хотел еще поговорить о бессмертии души.
— С нас хватит. Наслушались.
— Быть может, вам хватит, а другим нет.
— Садитесь!
Из зала никто меня не поддержал, и я, пожав плечами, пошел со сцены к своему месту, каждой клеткой тела ощущая направленные на меня взгляды. Лицо Гриши Постнова, охранявшего мое место, было угрюмо-угрожающим. Я сел, он раздраженно повел плечом — готов бы совсем отвернуться, да кресло мешает.
На костистом лице Ушаткова — красноречивое выражение значительности момента: мол, все ли слышали, видели, какие чудовищные странности случаются в мире сем?
— Что ж, товарищи!.. — взгляд Ушаткова по притихшему залу, взгляд спокойный и суровый, голос уверенный, даже немного грустный. — Приоткрыл нам Рыльников свое нутро. Да! И обратите внимание — прямо фокусник из цирка, тут вам и ученого Бехтерева из рукава вынул, и стишки беспардонные, и стол, видите ли, не стол — поковыряйся в нем, душу