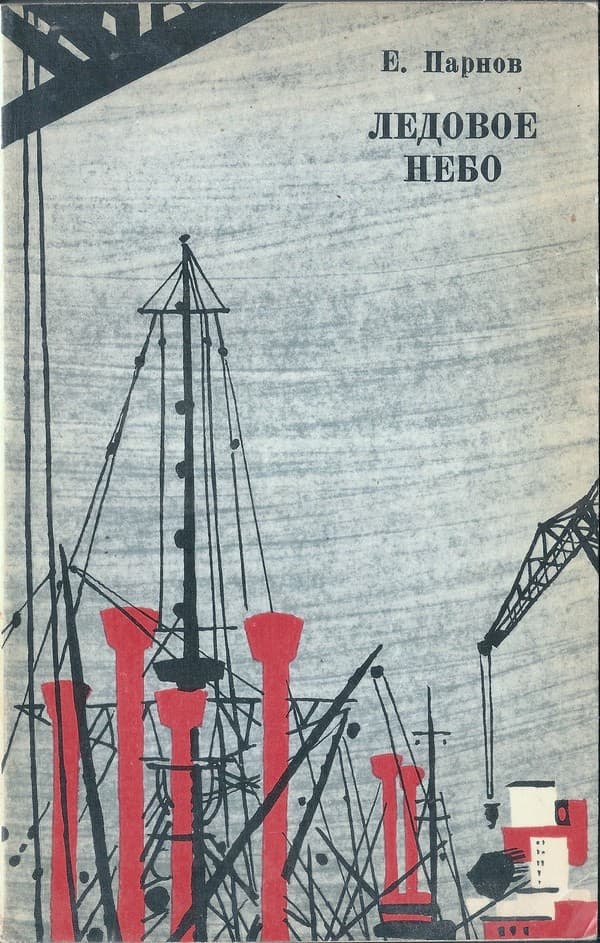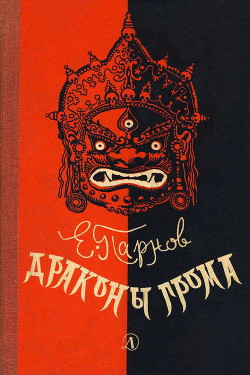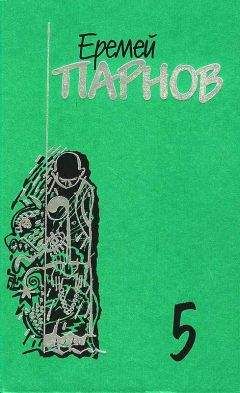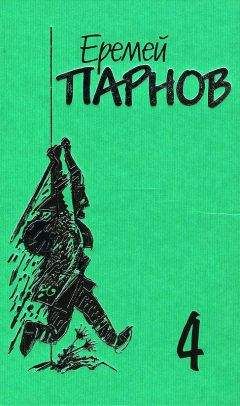попросила Одесса. — Еще номера будут, «Аджария»? — и когда выяснилось, что желающих больше нет, устало снизошла: — Ну давайте свои телефоны.
Четко артикулируя цифры, Шередко продиктовал номера.
— Девонька, — умильно попросил он, называя телефон Дугина. — Тут особенно постарайтесь, а то никак не может поговорить человек.
— Хороший хоть человек? — вопреки обыкновению пошутила радиотелефонистка.
— Очень! — с полной убежденностью ответил Василий Михайлович. — А вы, наверное, красивая: голос такой.
— Все мы для вас красивые, пока вы в море, — откликнулась она, приоткрывая свое собственное, выстраданное, возможно, знание, и сразу уже совершенно другим тоном повелела: — Говорите!
— Секундочку! — взвился Шередко и, отшвырнув наушники, кинулся к аппарату судовой АТС. — Константин Алексеевич? Давайте скоренько: жинка!
НАВИГАЦИОННАЯ РУБКА
Пользуясь попутным ветром и хорошей парусностью, возникшей при полной загрузке контейнерами, теплоход делал шестнадцать и семь десятых узла, что давало ежесуточный отыгрыш почти в три часа.
Худо-бедно, но когда на локаторе обозначился Гибралтарский пролив, «Лермонтов» нагнал верных восемь часов.
— Еще три недельки такого хода, и мы вернем свое, — пошутил Дугин. После беседы с женой он третий день пребывал в невыразимо приятном состоянии полного довольства. Пусть он не узнал ничего нового, помимо того, что она уже сообщала в радиограммах, сам факт состоявшегося, наконец-то, разговора уже означал нечто очень важное. Он и сам не понимал, почему. Живые слова могли лгать точно так же, как и отстуканные на машинке. Умолчать о том, что хотелось сохранить в тайне, Лина тоже могла с неменьшей свободой. Логически все это было так. Но вопреки этой рассудочной логике Дугии верил взволнованному теплу ее торопливой, мило картавящей речи. То, о чем он думал иногда в трудные для себя дни, разом схлынуло с сердца, интенсивно зажившего вдруг удивительно свободной, отдельной от мозга жизнью. Это было так необыкновенно, что хотелось запеть, особенно теперь, когда нее трудности остались, в сущности, позади, а желанные Геркулесовы столпы — скала Гибралтара на севере и Джебель-Муса на юге — уже отражали радиолокационный сигнал.
— Да, еще три недельки, — повторил он, довольно потирая руки. — Но, к сожалению, их у нас нет. Через двое суток изволь быть в Генуе.
Об осложнениях, которые наверняка ждали в Италии, даже думать не хотелось, так было хорошо. Словно в далеком детстве в любимом уголке за софой, пронизанном солнечными лучами, где весело танцевали пылинки. В довершение блаженства Дугин превосходно, разом за все пережитое выспался и после душа чувствовал себя совсем молодым. Он бы еще спал, и с неменьшей охотой, но приближение к узкости обязывало находиться в рубке.
Реальная скорость судна увеличивалась, потому что его уже подхватило поверхностное течение, мощным — сто метров — слоем вливавшееся в пролив. Особой роли это, конечно, не играло, но все равно было здорово нестись вот так, на дармовщинку, возвращая потерянное в начале пути.
Локатор рисовал сужающуюся воронку Джибралтара — как с шиком настоящего оксфордца произнес Беляй, отвечая на запрос службы Ллойда, бдительно следящей со скалы за прохождением судов.
Галактической россыпью обозначились встречные и попутные корабли, большие и малые светочи мерцающего огнями морского Бродвея, отделившего Африку от Европы.
— Запросите видимость в Средиземном море, — сказал Дугин, проникаясь сложностью нарисованной локатором картины. — Боцмана на бак и кого-нибудь — на корму.
Теплоход вошел в пролив, где его тут же подхватила качка, в ту самую минуту, когда часы радиостанции показывали красный сектор. Прослушивая эфир, Шередко поймал интенсивный сигнал голландского танкера «Зюдерзее», налетевшего вблизи берегов на неизвестный плавающий предмет. В результате столкновения у голландца заклинило руль и повредило винты.
Первым на призыв о помощи откликнулся рудовоз «Эльба», приписанный к гамбургскому порту. Он шел почти порожняком и находился всего в сорока милях от обездвиженного танкера. Василий Михайлович тоже передал свои позывные и, сделав в журнале соответствующую запись, заглянул в навигационную рубку.
В «лавке», как выражался Беляй, был полный кворум: старпом с Эдуардом работали за штурманской стойкой, Мирошниченко стоял у главного локатора, а сам капитан, как обычно, сидел на платформе стремянки, безмятежно глядя в синюю дымку, в которой чарующе переливались зеленые, белые и красные самоцветы сигнальных огней.
— Что я говорил? — воскликнул Дугин, выслушав сообщение. — Голову даю на отсечение, что это та самая бочка! Она мне сразу не понравилась, — не скрывая торжества, он наставительно погрозил пальцем. — Будьте уверены: эфэргешники отхватят приличный приз за спасение. И поделом — за беспечность надо платить.
— После столкновения плавающий предмет исчез, — с ноткой сомнения заметил Шередко. — Радируют, что пошарили прожектором все вокруг.
— Еще бы не исчез, — уверенно объяснил капитан, — они ее протаранили и окончательно затопили. Совершенно очевидно, что этот «Зюдерзее» шел с дифферентом на корму.
— Во океан загрязнили! — вздохнул Беляй. — Проходу нет. Чего только не плавает.
За долгие годы дальних походов Дугин научился воспринимать жизнь в неразрывном единстве противоположных начал и поэтому не верил в случайности. По его глубокому убеждению, чем-то близкому к симпатической магии первобытных племен, все висящие на стенах ружья рано или поздно стреляли. Избежать на море неприятных неожиданностей можно было только одним способом: заранее предусмотреть любую мелочь. И хотя в идеале этот принцип был, разумеется, невыполним, соблюдать его по мере сил и возможностей следовало неукоснительно. В случае с бочкой он увидел еще одно подтверждение мирового баланса, простегнутого бесчисленными стежками самых неожиданных, но всегда срабатывающих связей. Ведь не случайно даже в проливе, которым, снизив ход до четырнадцати узлов, следовал «Лермонтов», поверхностному течению соответствовал придонный противоток, выносящий в Атлантику избыточную соль Средиземного моря.