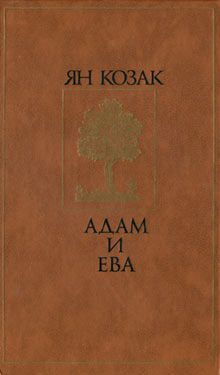Ах, нет. С Алоисом Конясом, знаменитым садоводом из наших Роудниц, — а для этой книги я с наслаждением истинного гурмана использовал опыт его вдумчивой, упорной и дьявольски своенравной работы — ничего похожего на историю Адама и Евы не произошло.
Адам — это я, и Ева — тоже я. Да и все мои герои — это я сам. И если кто-нибудь, где бы он ни жил и ни работал, случайно признает в ком-либо самого себя — ей-ей, я здесь ни при чем, да и беды большой тут нет. Скорее всего, и в нем самом тоже есть нечто общее с моими героями.
Ну, а теперь за дело.
Облачаюсь в рабочую блузу. Руки — как и душа — благоухают свежим привойным воском, даром трудолюбивых пчел.
Автор
1
Земля нашего прародителя Чеха
Развалясь и привольно раскинув руки, отдыхаю на вершине горы, под старым высоким развесистым орехом. Прогретая трава дышит истомой; послеполуденное солнце мягко ласкает лицо. Воздух свеж и прозрачен. Словно легким дымком, пропитан он горьковатым ароматом растрескавшейся ореховой кожуры. Сентябрь — прекрасная, благословенная пора!
Из года в год благоухает он вызревающими фруктами, чья кожица подернута как бы легким налетом инея.
Внутренним зрением вижу — вот уже покрываются росой яблоки и груши. Золотится и рдеет во мне виноградная лоза, отягощенная пряной сладостью налитых соком гроздьев… Перед глазами у меня цветущий темно-фиолетовый вереск и белые грибы, взобравшиеся на солнечный откос, красноватые головки крепеньких подосиновиков, укрытые слетевшими с дерева березовыми листьями. Они уже тронуты зеленовато-коричневой медной патиной. В эту пору, когда воздух переливается, дрожит, сверкает, отражая золото листвы, я люблю забрести на берега Лабы. Терпеливо слежу за поплавком — не дрогнет ли леска, не запляшет ли на ней карп, линек, голавлик или щука. (Ну и хитер ты, Адам! Знал ведь, какое выбрать местечко, где выкатиться на белый свет и шумно вдохнуть, смакуя этот воздух. Ну и хитрец, сумел ведь отыскать этакое местечко!)
Лениво расправляю члены и щурюсь на солнце. Небо синее-синее, лишь кое-где появляются легкие белесоватые облачка…
Невдалеке от меня, за частыми стволами дерев, чуть не до самой земли склонились тяжелые, усыпанные созревающими плодами ветки яблонь. Богатый будет урожай…
Но что особенно приятно ласкает взор и веселит сердце — так это огромная плантация персиковых деревьев. Широко раскинувшись подо мной, она спускается к самому подножию горы. Неважно, что персики уже сняты, а прежде густая зеленая крона непривычно узеньких листочков несколько поредела.
По природе своей деревья эти должны бы жить на солнечных холмах далекого юга, а не здесь, на склоне горы Ржип, на севере чешской земли.
Персик — царь плодов. Мое любимое дерево.
С радостным умилением — признаться, еще и взбодренный глотком-другим вина — мысленно обозреваю бесконечные ряды карликовых стволов. Они — моя любовь, моя гордость. Не я ли высаживал их здесь, на пустынном откосе, поросшем кустарником и чертополохом? Да, это я заставил их укрепиться, пустить корни на северном склоне, хотя лишь ленивец не насмехался надо мной, считая чудаком и безумцем. Моими трудами корни персиковых стволов проникли в землю, как в женское лоно, и взяли ее соки. Выходит, они мое творение. Пришлось, конечно, постараться. Но теперь они уже плодоносят…
Сад — моя собственность, мое богатство, мое достояние. Он простирается далеко за Крабчицкое шоссе. Персики, абрикосы, яблони и вишни густо заполонили соседние берега и горные склоны. И все это — мое. Неважно, что принадлежит плантация Роудницкому госхозу и что теперь без малого два десятка людей пестуют ее, заботятся о ней. Ну и что же? Мне на досужую скуку жаловаться не приходится. Я садовник, я развожу сады, а это, как всякому известно, одно из самых древних и самых благородных занятий на земле. Издревле руки наших трудолюбивых предков пахли свежим лыком, волокнами липы, которыми они обматывали привои и обвязывали раны деревьев; пахли соком и привойным воском, одним из тех даров, что приносят нам пчелы, роящиеся в дуплах старых деревьев, прямо под благоуханными раскидистыми кронами лип. Нет, не случайно, не зря липа — символ всего истинно чешского.
Гляжу окрест себя. Сердце переполняется гордостью и нежностью одновременно.
Собственно, что же это я праздновал? Свое пятидесятилетие? Что дожил до него в полном здравии? Что успел уже досыта всякого вкусить и отведать? Полезного и приятного, аппетитного и не слишком, сочного и neресоленого, пропеченного до хруста и подгоревшего? А ради чего? Ради того, чтобы после долгих подсчетов осознать, что мне все еще мало? Аппетиты мои растут, сам я становлюсь все разборчивее да привередливее к тому, чем утоляю жажду и голод. Время летит. Не теряй ни единого мгновенья, Адам! Пусть ни один лакомый кусочек, ни одна бутыль роудницкого, ни одна его капля не пропадают зря!
Не расточительствуй понапрасну, не упускай времени. Снова и снова принимайся за дело; ты еще не доел своего барана, от него остается порядочный кус. Руки у тебя крепкие, да и голова неплохо варит… Ладони просто чешутся от нетерпенья, так и рвутся к работе… Но погоди, не спеши без оглядки! Умей насладиться всякой доброй, приятной минуткой. Что ни говори, такие мгновенья — сама благодать…
Какое это счастье — отдыхать, обнимая взглядом плоды своих трудов, сидеть и разглядывать, что из них произросло. Сознавать, что все это тебе положено было совершить: взять заступ, подготовить почву и высадить деревья, поливать их и ухаживать за ними, прививать и прореживать, оберегать от заморозков, уничтожать вредителей. Сколько пришлось пролить пота, чтобы хрупкие саженцы набрали силу, укрепились, поднялись, выпрямились и широко раскинули свои ветви! Чтобы по ним побежали соки, а потом, когда лопнут почки, чтоб окинулись они розовыми лепесточками цветов и нежнейшим пухом листвы, чтобы молоденькие завязи не погибли ни под дождем, ни под лучами солнца или порывами ветра, чтобы вызрели они и превратились в пухлые, мягкие сосуды, наполненные сладким нектаром. (Это снова мне вспомнились мои любимцы — персики!)
Тут мой взгляд, миновав крыши окраинных домов, ощетинившихся телевизионными антеннами, сбегает вниз и останавливается на широком изгибе Лабы, отливающей тусклым блеском старинного серебра. Лента реки неутомимо вьется под высоким опоковым берегом, украшенным виноградниками и садами. Над ними возвышается лесистая макушка Совицы, меньшей сестры нашей горы Ржип, чья обольстительная грудь с соском часовни наверху девственно вздымается неподалеку у меня за спиной. Чуть ниже по течению Лаба разливается широко, без помех. Лениво несет она свои воды мимо старого фазаньего заповедника, в годы моего детства еще принадлежавшего князьям Лобковиц, и дальше катит средь необозримых полей и плантаций, отведенных под хмель. Вдоль реки привольно раскинулась плодородная нива, будто отдыхающая женщина, зрелая, в самом соку, соблазнительная пышностью своих широких бедер и мягкой округлостью живота. Ее тучная, из года в год тщательно возделываемая плоть, взрыхленная плугом и оплодотворенная семенами, родит в изобилии. За Лабской равниной, словно охранительный вал, поднимается над вселенским простором венец Чешских Средних гор. Защита от студеных, холодных северных ветров, а в недавнем прошлом — наряду с Крушными горами — естественная преграда для неприятелей. Столетиями шли они с севера и запада, пытаясь снять урожай с наших полей, ограбить и опустошить землю, поднятую и обработанную нашими руками.
Я наслаждаюсь ею, нашей покойной и мирной, прелестной и обольстительной подржипской землей, родным мне уголком нашей отчизны.
Вбираю ее глазами, вдыхаю грудью, всасываю, впитываю в себя, пробую на ощупь, трогаю руками и смакую языком. (В данный момент — потягиваю ее крепкую и пряную, бодрящую кровь, наше прославленное роудницкое сватовавржинецкое вино: початая бутылка этого напитка, пока я размышлял, сама собой скользнула мне в руки.) Мы — родная мать-земля и я — принадлежим друг другу. И солнце, и воздух у нас пополам; одни и те же дожди поливают нас, одни и те же морозы обжигают и закаляют.
И вода Лабы словно прошла сквозь мою душу и омыла ее… Мысленно я снова заключаю все в свои ненасытные объятья. Сдается мне, что за два дня безделья, обжорства, приготовления яств: жареных уток, кур, холодных закусок, соленых и сладких блюд на десерт, огурцов, лука и помидоров — я так и не утолил голода.
Но вставать мне еще не хочется. Не мешает иногда на приволье поразмыслить о работе. Я лениво потягиваюсь и снова наливаю себе вина: пить прямо из бутыли я не любитель. (Бог мой, да ведь что тогда остается глазам и ноздрям? Ведь они не у дел, раз не получают удовольствия. А я не такой уж простак! Не люблю сам себя лишать того, что мне доступно.) Итак, у меня в руках стакан с темно-рубиновой влагой; я покачиваю его, разглядывая против солнца. Солнечные лучи мерцают и переливаются в напитке, как если бы в сосуде вспыхивало и разгоралось само вино. Как прекрасно растопилось яркое светило в виноградном соке! Отпиваю еще глоток. И кажется, будто вино стало мягче, бархатистее и притом чуть прянее, чем раньше. Отчего бы это? Проверить, попробовать еще?.. ут меня отвлекают шумные вздохи и всхлипывания. Тысяча чертей! Совсем забыл, что я тут не один! Это пробуждается Олдржих — он спал в траве у меня за спиной. Мой старинный знакомец. Когда-то, много лет назад, мы даже работали вместе. Разошлись не лучшим образом, да время все уладило. Теперь Олдржих служит в районном управлении сельского хозяйства, что в Литомержицах, — собственно, он мое начальство, хоть и не прямое. У меня он объявился сегодня вскоре после полудня. С приятельской, чуть смущенной ухмылкой — зашел, дескать, проведать, опомнился ли я после прошедших торжеств.