Пуля медленно вращалась вокруг своей оси. Кусочек металла поблескивал в лучах солнца, которые косыми линиями перечеркивали комнату от верхнего края окна до телевизора, стоявшего на полу рядом с дверью в прихожую.
Пуля приближалась к его лицу, и чем ближе она была, тем счастливее он становился, тем дальше отступала привычная, ставшая частью его существа тоска, тем стремительнее уменьшался объем страшной, холодной пустоты внутри.
Вся его жизнь была погоней за новыми ощущениями, за чем-то таким, что могло бы заполнить сосущую и постоянно ноющую каверну в его душе, вакуум, который он чувствовал внутри себя если не с самого рождения, то с момента первого осмысленного взгляда на мир.
Он искал это ускользающее нечто в дешевом портвейне, распиваемом в холодных советских парадных с дружками-одноклассниками, в школьном драмкружке, на первом курсе ВГИКа, в дорогих ресторанах и самых дешевых "пролетарских" пивных, в запрещенных видеокассетах и еще более запрещенных книгах, в тряске, лязге и бензиновой вони своего первого "Москвича".
В дожде, стоявшем серой стеной перед лобовым стеклом машины, в бездонной, непролазной грязи российских дорог, в избушках, заброшенных в дикую тайгу, в ликах святых, смотревших на него с икон, которые висели на стенах этих избушек, он искал то, что могло бы дать ему ощущение Настоящего, что превратило бы окружающий мир из серого, бедного и тусклого театра марионеток, каким он привык его видеть, в реальную, живую, сверкающую яркими красками Вселенную.
Он смотрел на портреты президентов, и они отвечали таинственными полуулыбками с зеленых, непривычно больших, после рублей, купюр. Улыбки что-то обещали, но, оказавшись там, куда они звали, он находил все то же самое – все тот же кукольный театр, только режиссеры иные и нитки, за которые невидимые актеры дергают марионеток, несколько прочней.
Он смотрел вестерны и снимал проституток, он водил дружбу с отпетыми уголовниками и видными политиками, по ночам пил с артистами, музыкантами и художниками, всегда мог занять денег, позвонив по мобильной связи людям, одни имена которых вызывали у обывателя – в зависимости от его социальной и политической ориентации – либо благоговейный трепет, либо приступ немотивированной ненависти, он объездил весь мир, владел движимостью и недвижимостью, его знало великое множество людей, а он знал еще больше, он перепробовал все имеющиеся на мировом рынке наркотики, он зарабатывал деньги, тратил их не считая, жизнь его неслась в бешеном темпе, и он старался увеличивать скорость, которая и так уже была на пределе возможного, он бежал, ехал, летел в бесконечном поиске того важного, что помогло бы ему понять смысл происходящего вокруг.
Однако чем дальше он заходил в своих поисках реальности, чем быстрее неслась его жизнь, тем отчетливее он понимал, что то далекое, заветное, то, что, как иногда казалось, находилось в пределах досягаемости, на самом деле становилось все более недостижимым. Иногда ему мерещилось, что до разгадки тайны этой картонной, искусственной жизни остался лишь день или даже час пути, что за первым же поворотом его ожидает то самое важное открытие, к которому он всегда стремился, но он проходил, проезжал, пролетал этот поворот, проживал и час, и день, и еще день, и еще год, а разгадка так и не появлялась.
Пуля была уже совсем близко.
"Героин, – подумал он. – Надо же… Какие штуки вытворяет… Никогда бы не подумал… Этакий рапид. Чудеса. А говорят, что не расширяет сознание. Еще как расширяет. Но нет, это не то, что прежде. Что же такое мне вкололи?.."
Он не помнил, сколько и каких препаратов смешалось за сегодняшний вечер с его кровью. Он обладал удивительной способностью всегда контролировать собственное состояние – редкая, очень редкая особенность организма помогла ему не превратиться в законченного наркомана, и он получал изысканное удовольствие только по собственному желанию, не испытывая физиологической потребности в наркотике.
Сейчас он видел и пулю, зависшую в воздухе совсем недалеко от его собственного носа, и ствол пистолета, из которого она вылетела мгновение назад – мгновение, за которое он успел передумать и прочувствовать столько, что эти переживания можно было бы растянуть и на целую жизнь, – видел и фигуру человека, сжимающего в руке пистолет. Пистолет был направлен ему в лицо – черное отверстие дула еще окружало облачко пороховых газов, и он снова вспомнил и снова пережил невероятную красоту вспышки выстрела – золотой сноп искр, шаровая молния, которая надулась, налилась всеми цветами радуги и медленно лопнула перед его глазами, выпустив на свободу металлический цилиндрик.
На пузатеньких боках вращающейся пули сверкали солнечные блики, цилиндрик словно ввинчивался в тяжелый, переслоенный табачным дымом воздух. Пуля медленно приближалась. За ней летел целый рой горящих пороховых крупинок – микроскопических мошек, каждая из которых дышала огнем, словно крохотный дракон из старой детской сказки.
Когда он почувствовал на лице дыхание пули, словно металлический цилиндрик был живым существом, когда ощутил тепло, исходящее от нее, он осознал, что именно сейчас его жизнь стала абсолютно полной и обрела долгожданный смысл. Его захлестнул восторг, откуда ни возьмись появилась бешеная энергия, адреналин забушевал в насыщенной наркотиками крови, голова прояснилась, и он все понял.
Ему захотелось улыбнуться, заорать, засмеяться от радости, от первой в жизни настоящей радости, радости осознания смысла собственного бытия и отсутствия изматывающей душу пустоты внутри.
"Не успею, – подумал он. – Не успею".
Благодаря своей удивительной способности к самоконтролю он, одновременно с бешеным приливом невиданного счастья, определил, что пуля летит быстрее, чем он может улыбнуться.
"Не успею. Жаль. Ладно, потом. Потом. Сейчас и так хорошо…"
Когда пуля коснулась своим остреньким клювом кожи на его лбу, в ослепительной, жгущей глаза вспышке белого света он увидел все сразу – комнату, затянутую табачным и пороховым дымом, подъезд многоэтажки, в которой он сейчас находился, улицу, огромный город, просыпающийся и готовящийся к новому рабочему дню. Его поразили истинные размеры чудовищного муравейника, в котором он провел большую часть своей жизни, хотя прежде ему казалось, что он прекрасно знает свой родной город, но нет, этот город был гораздо больше и сложнее, чем ему представлялось ранее.
Он видел каждую улицу, каждый дом, каждую квартиру, видел одновременно всех людей, мог рассмотреть лицо каждого из миллионов жителей гигантского мегаполиса.
Все жители шевелящегося каменного муравейника двигались по строго определенным траекториям, совершали запланированные действия, движения, все их жесты были предусмотрены мудрым и сложным планом, и он увидел наконец всю таинственную систему связей, ниточек, тянущихся от каждого жителя города в строго определенном направлении, увидел он и кукловодов, дергающих за ниточки, и режиссеров, покачивающих головами, когда кто-то из кукловодов ошибался и выходил за рамки сценария.
Пуля пробила лобную кость над правой бровью, и в этот миг он увидел и себя, узнал о своем истинном предназначении в пьесе, поставленной теперь уже известными ему режиссерами, и поразился ничтожности собственной роли.
"И это все? Только ради этого я… Нет, все не так! Не так! Я другой… Переиграем… Это даже не "Кушать подано"… Даже не статист… Это же что-то вроде шагов за сценой… Я же могу, я умею, я знаю, как надо… Это не моя роль!.. Это ошибка!"
Пуля вошла в мозг, она двигалась, почти не замедлив скорости, крушила серое вещество, превращая его в отвратительную грязную кашу, рвала сосуды и нервные узлы.
"Нет! – кричал он. – Остановите! Назад! Так нельзя! Я не хочу! Верните мне…"
Свет меркнул, и вместе с этим наваливалась невероятная, тупая, с тошнотой и смертельным жаром боль, боль, которую невозможно представить себе живому человеку, каким бы воображением он ни обладал.
"Ад, – подумал он, и это была последняя мысль, которую выдал уже необратимо разрушенный мозг. – Вот он, ад… А я-то думал…"
Убийца посмотрел на дернувшееся, а потом замершее в кресле тело, подошел к окну и стволом пистолета слегка отодвинул в сторону грязную занавеску.
Впервые за последний месяц в небе не было ни облачка. Окна квартиры выходили на запад, и убийца видел, как сверкают на крышах соседних домов яркие полосы солнечного света.
В одном из желтых квадратов, помахивая толстым пушистым хвостом, расположился жирный серый кот. Заметив в окне человека, он несколько раз лениво ударил хвостом по крыше, медленно повернул тяжелую голову и, щурясь от удовольствия, посмотрел на убийцу. Потом кот широко зевнул и отвернулся, потеряв к непрошенному наблюдателю всякий интерес.
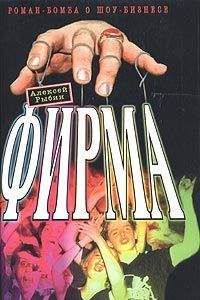


![Джек Вэнс - Умирающая Земля. Сб. [Умирающая Земля. Машина смерти. Глаза Верхнего мира. Большая планета.]](https://cdn.my-library.info/books/57052/57052.jpg)

