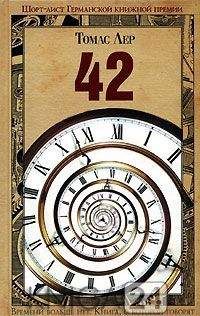В современной германской литературе, весьма разнообразной и довольно непредсказуемой, есть одна тема, которая, видимо, до некоторой степени определяет нынешнее мировоззрение немецкой литературной публики: вселенское одиночество. Не фигуральное — фигурально все умеют, — а буквальное. Когда вокруг — никого. То есть — вообще никого.
Семьдесят человек выходят на поверхность после экскурсии в Европейский центр ядерных исследований — и вокруг них прекращается время. Точно неизвестно, отчего именно их полудохлыми рыбами выкинуло на берег океана безвременья, в котором без видимых страданий пребывают остальные — в том числе их дети, жены, мужья, друзья. Мир остановился. Солнце застыло. Умерли циферблаты.
Пять лет семьдесят человек живут, как любое общество. Все пути и заблуждения человеческой истории в модели мира масштаба 1:86 000 000. Все теории развития государства воплощаются за пятилетку. Если соблюдать простые правила, семьдесят «зомби» могут ни в чем себе не отказывать. Сносный быт, секс с кем угодно без малейшего риска получить от ворот поворот, куча денег, которые низачем не нужны. Люди очутились в идеальных условиях — на острове Утопия, в Городе Солнца образца XXI века. Пересматриваются законы бытия — от физики до культуры и морали. Проходит два года, и противопехотные мины становятся насущнее часов — единственного хлипкого якоря, погруженного в реальное время, которого нет. Случившееся чересчур странно — поэтому все, что до сей поры было известно о мире, вполне можно отменить.
Что будет, если человечество просто выключить? Что случится, если однажды выйдешь на улицу — а там ничего не происходит? Каково это — остаться живым человеком в развитой, современной, прогрессивной, дружелюбной, но окаменевшей Европе, трехмерной фигурой на плоском фотоснимке. Простейшая модель, элементарнейшее допущение — и из них вырастает мир поразительной глубины, изобретательности и степени детализации. Текст логичный и головокружительный, как теория относительности, и элегантный, как проза Набокова, чьим учеником считает себя Лер.
2005 год, Международный год физики, был в Германии объявлен также годом Альберта Эйнштейна. Совпали две круглые даты: 50 лет со дня смерти ученого и 100 лет — с открытия им теории относительности, после которой наука изменилась навсегда.
Роман «42» вышел в 2005 году. А в марте 2006 года Томас Лер провел литературные чтения в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН). Интересно, о чем спрашивали его физики.
Максим Немцов,
координатор проекта
Томас Лер родился в 1957 году в Шпайере. С 1979-го по 1983-й изучал биохимию в Берлине, где сейчас и проживает. Помимо писательской деятельности, работает компьютерным специалистом в Свободном университете Берлина.
Автор новеллы «Весна» (2001) и четырех романов: «Цвайвассер или Библиотека Милосердия» (1993), «Ответ» (1994), «Кошка Набокова» (1999) и «42» (2005). Томас Лер – лауреат Литературной премии Рауриса, Премии Мары Кассен, Берлинской литературной премии по искусству, Премии Вольфганга Кёппена и Литературной премии Рейнгау. Роман «42» в 2005 году вошел в шорт-лист Германской книжной премии.
Для нас, верующих физиков, различие между прошлым,
настоящим и будущим — всего лишь иллюзия,
хотя и настойчивая.
Альберт Эйнштейн
People suffering from Vertigo should be warned that some locations are impressive"[1]
http://www.cern.ch/VisitsService/Guide/Manual/Delphi.html
23.09.1999, 15:40
Мгновение. Я видел всполох ада, смертельный райский блеск; ворвавшись сквозь одиночные камеры зрачков, он должен был спалить мой закристаллизовавшийся мозг, взорвать его страхом и надеждой. Этот немыслимый, единственно реальный, мягкий трепет материи! Шаги. Предчувствие летнего ветерка. Музыка. Сердце мира, ожившее ради одного-единственного удара. Отныне каждый предмет подозрителен. С беспощадной ясностью мы вновь осознаем, что место нашей жизни невозможно.
Цюрих, 14 августа, год нулевой. Четыре дня передо мной одна и та же картина: летний пейзаж без рамы и под прямым освещением, сияющий до самого венка Альп. «Если что-нибудь случится, встречаемся в Цюрихе, на Бюрклиплац, — предложил Борис и добавил с усмешкой: — В 12:47». Ничего важнее случиться и не могло. Доказательства — неоспоримы, на экранах тысячи компьютеров и телевизоров. Я заходил в университетский вычислительный центр. Гитарный аккорд уличного музыканта. И опять музыка звучит лишь в моей памяти. Судорожно, в страхе, что копилка звуков вскоре иссякнет, умолкнет всякая мелодия и останется лишь клеть моего дыхания, темный, ритмично пульсирующий туннель моего «Я», уходящий вглубь, до самого рождения. Гвалт чаек над блестящим, бесконечно спокойным озерным устьем. Стук и плеск волн под мостом Квайбрюкке, где из озера вытекает Лиммат. Где вытекал Лиммат. Возгласы и смех с озера, над стайкой водных велосипедов. Трезвон трамвая за спиной — звук резкий, дребезжащий, отдаленно похожий на колокольчик. Мне даже не нужно голосов — хватит и того, что на краткий мимолетный миг разорвалась тишина позади меня.
Неужели это их рук дело, неужели им действительно удалось? Им, женевским умникам. Высоколобым. Невероятно, хотя Мендекер и объявил однажды, что это лишь вопрос времени. Время не задает вопросов.
12:47. Южная панорама. Человеческому глазу безразлично, движется ли что-то вдалеке или нет. Вблизи все иначе, здесь неподвижность отдается мучительной болью где-то под кожей. А возможно, что на несколько реальных, неподдельных секунд мозг еще может зарегистрировать остановку сердца, окончательную тишину в теперь уже незыблемом ландшафте тела. И тогда я увижу смерть, точно так же, как сейчас, стоя на Квайбрюкке лицом к Тальвилю[2], охватываю взглядом застывший блеск водной глади, гряду холмов в неизменном полуденном свете, молочно-голубоватые предгорья Альп и далекие трехтысячники, словно прозрачные, сложенные из разноцветной шелковой бумаги: серой, антрацитовой, янтарной. С Бюрклиплац не бывает иного вида, как не бывает иного освещения.
Малейший трепет выдаст Бориса и Анну.
У меня же было предчувствие. Здесь, на этом самом месте, за два дня до поездки в Женеву. Мираж. Иллюзия моего исчезновения, словно меня медленно и бесследно уносит отливной волной и вымывает из кристалла летнего дня. Не пресыщенность, нет, но сытость, такое, если угодно, швейцарское чувство, когда все может и продолжаться, и закончиться, но наличие и отсутствие меня ничего не изменит в общей картине. Все останется как на фотографии: неподвижное скопление трамваев на Бель-вю, прохожие на набережной Уто, зеленый купол Оперного театра, странные скромно-величавые дома, балюстрада у озера.
Медленно подхожу к бронзовой статуе. Простирая правую руку к небесам, мальчик призывает взлететь орла у его ног, такого же тяжеловесного и металлического. И кажется, что если птица и правда взовьется, с мальчика тоже спадут чары и он спрыгнет с пьедестала. И мгновенно кровоток пронижет все пространство: каждую клетку, каждый вздох. Еще бы на один миг услышать гвалт чаек, шорох шин на мосту, стрекотание трамвайных колес по извилистым рельсам, бегущим к Бельвю, шелест воздуха.
Шестой день. Опять мальчик с бронзовым орлом, опять сверкающий купол летнего неба. Надо было дать объявление для Бориса и Анны. Они придут. Кто знает, где это их настигло. Дать объявление. Я еще могу смеяться — сам с собою, беззвучно, пронзительно. Возможно, это уже и на смех-то не похоже. У нас специфическое чувство юмора. Хоть этого не отнять. Дать объявление. Подойти к вокзальной справочной. Простите, когда отходит поезд? Ах, в 12:47, так я и думал!
Прекрасная гельветическая упорядоченность мира. Обеденный перерыв. Прогулка на озеро. Готов поспорить, что все как раз возвращаются. Оба старика в облаке сигарного дыма, таком же точно, как вчера. Два авто-стопщика сняли с плеч и поставили на землю рюкзаки, оперев один на другой. Сорокалетний мужчина в легком макинтоше; следом, чуть отстав, женщина с недовольным лицом. Босоногая девочка на велосипеде, которая наедет на пожилого господина в следующее, абсолютно невероятное мгновение.
Слева на скамейке опять сидит мое искушение в фиолетовой шляпке. Меня радует и удивляет, что никто из наших не тронул ее, хотя здесь многие проходили. Я подхожу к ней сзади так близко, что тыльной стороной руки почти глажу блестящую черную волну волос. Затем медленно появляюсь в поле ее зрения, словно хочу всего-навсего лучше рассмотреть Гроссмюнстер. Она японка или китаянка. Быть может, кто-то шутки ради надел на нее эту фиолетовую шляпку. Наблюдателя смущает полуоткрытый рот, который то ли в рассеянности позабыл жвачку, то ли нацелился что-то аккуратно откусить, и потому обнажает свою бледно-розовую полость. Ее глаза видят и не видят. Я волен полагать, что она пристально смотрит на меня и нарочно дарит предчувствие цвета и гладкости внутри себя. Но в моей власти войти в любой взгляд. Я наступаю во всеоружии моего преступления. Крик, пощечина, призывы о помощи. Вот все, на что я надеюсь. Со мной ничего не может случиться, и все же я дрожу, чувствую, как судорожно сжимается горло. Я уже так близко, что наши колени соприкасаются, ей давно пора бы пошевелиться: вздрогнуть, недовольно отпрянуть, податься навстречу. Когда я наклоняюсь, не существует больше никого, кроме нас. Ее полулежащее тело, замкнутое в светлом льняном платье, принимает меня, заставляя померкнуть весь необъятный летний день вокруг. Я разорвал ее заколдованную ограду из шиповника, ядовитое веретено неподвижно лежит на земле. Заглядывая в тень полей шляпки, изучаю гладкий лоб, миндалевидные глаза, нежный, ароматный фарфор лица. Ее пронизывает мое время, мое излучение, абсолютное настоящее моего тела. Сейчас! — шепчет, шумит, кричит что-то во мне. Сейчас!