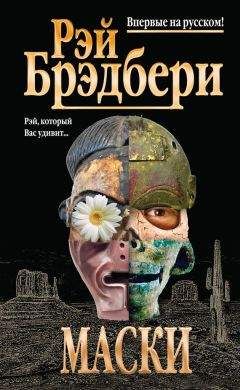Александр Гольдштейн
Аспекты духовного брака
В справочниках и словарях все чаще встречается фаюмский портрет. Это заупокойные живописные портреты в Древнем Египте, писались они на доске, вставлявшейся затем в бинты мумии на месте лица; замена традиционной заупокойной маски Ф. п. произошла в греко-египетской среде под римским влиянием. Из тех же источников почерпаю о двух стилистических направлениях, наметившихся в этом виде искусства: первое наследовало античности, второе — духу Египта, предпочитавшему графичность, фронтальность, плоскостность, резкие контуры. Второе направление в конечном счете победило. Ф. п. для меня самый дорогой тип творчества. Мечтаю, чтобы дыхание фаюмского света приблизилось хотя бы к некоторым изображениям, срисованным для этих листов с мертвых или покамест живых.
Коснуться декабрьских сумерек, не упустив близ лавки с коврами господина в шелковом пиджаке. Вежливо, как заведено средь богатых сефардов, наставляет он брата, подельника, друга, мне приятны их перстни, золотые цепочки, штиблеты из крокодиловой кожи, достоинство плавных движений и слов. Вспомнить ашкеназские, долговременной выдержки семейные пары, что наслаждаются застольем из рыбы в харчевне по улице Фришман, где обслуге, нанятой ублажать завсегдатаев, вменен облик домашних ласковых девочек в блузках и фартучках, с нежными выпуклостями, к удовольствию многих смотрящих. Зайти в одну из контор путешествий, кружащие голову маршруты, к туарегам, ацтекам, гипербореям. Сквозят рассыльные, торопятся щеголеватые клерки, влачатся при англичанах осевшие кашемирово-твидовые старцы и старицы, в прибрежных гостиницах, барах, танцклассах процветает бродячая поросль чужеземцев, европейское пение птиц в темных кронах дерев, веет кофе, кондитерской сдобой, духами, трубочным табаком, остывает от полугодичного зноя пляжный песок, замер яхт-клуб, прекрасно своим неспокойствием прохладное море. Место, которое по ошибке меня приютило, в Тель-Авиве одно из немногих, еще не поддавшихся нашествию Третьего мира, но сопротивление этих оазисов продлится недолго.
Яффа, жилище и фотография
Пространство вокруг буржуазно, сам же я неустроен, о чем сообщаю, стремясь к точности. Арендуемая квартира мне перепала случайно; поднимаясь в редакцию, ненароком набрел на пустующие симпатичные комнатки, двумя третями заработка расплачиваюсь за потребность жить в центре гражданской столицы, рукой подать до соленой и магниевой средиземной воды. Хозяева на той же лестничной клетке, два прижимистых ящера из подмандатных времен Палестины. Ему отказали варикозные ноги, целые дни напролет перед телеэкраном в кресле для инвалидов, она еще ходячая, еврейский бог дал им сына-дебила, лупоглазого толстяка, обучившегося чем ни попадя колошматить по твердым и звонким поверхностям, в остатние ж сутки истошно кричать, — сначала я вздрагивал, после привык, впрочем, взрослого сына часто сплавляют в лечебницу. Собственной мебели нет у меня, из вещей и явлений, помимо одежды и книг, принадлежат мне компьютер, крохотный телевизор, подтекающий электрический чайник. Малочисленность утвари не тяготит, разве что иногда бывает отрадно украсить жилище, и над столом, близ двери, у изголовья лежанки, еще где-нибудь приклеиваю фотографию — значительную фигуру или пейзаж, чтобы смотреть на них, как смотрю сейчас на дилетантское фотографическое отражение Яффы, меж тем до всамделишной вдоль берега минут сорок, не больше, зимним опаловым полднем, весенним ли предвечерьем входя в розово-кипенный форт над маслянистой волной.
В инкрустированном полумесяце, в светозарном ятагане Яффы, какой предстает с дистанции двух колониальных миль ее горящая скальными камнями изогнутость, попадается довольно всякого люду: чинят сети рыбари, мажут холсты художники-кустари, поедают сувляки любители малоазийско-балканской кухни Леванта, я же, влекомый к женщинам, туда прихожу ради свежих лиризмов арабского мира, и мужской это мир, ибо на Востоке только мужчинам даровано источать душистую лирику. У арабов тоже есть женщины, постоянно оплодотворяемые, тяже-поступные, в балахонах до пят и белых наголовных платках могучие самки деторождений, но мужчины обошлись бы без них, самочинно, огнем чресел своих и вынашивающим терпеньем характера справившись с прокреацией. Сметливые торговцы, сосущие извилистую кишку кальяна, верткие аладдины, воздыхатели гашиша, томная лютость в их взглядах, шербетом облили змею. Взаимно и обходительно им в своей родовой тесноте, лишь традиция, коей они сыновья, узловатыми пальцами отворяет комнату дев, веля брать их в дом служанками хуммуса, риса, маслин, поглотительницами семени господина. Философ долгими вечерами охотился на мальчишек в Париже, никто, кроме нищих магрибских парней, даже за деньги не соглашался потискать его опущенный жгут пухловатого мужеложца, — прочитавши о том, я охладел к развиваемой им философии. Не исключаю, однако, что блужданья на холоде и отказ других наций удовлетворить его дряблую похоть приплетены из дневникового драматизма, целью имея разжалобить, а искал он арабов специально, например, увлеченный их запахом. Хорошо ведь известно, хоть я не особо принюхивался, как бы несколько брезгуя (я очень брезглив, о чем будет рассказано позже, когда настанет час), что пахнут они натурально, своей неподдельностью — редкость по нынешним, изгоняющим смрад временам. Им нравится опрыскиваться духами, умащаться туалетною жидкостью, прямые отпрыски древних, во дворце и серали клубившихся благовоний, они обожают шествовать в облаке парфюмерии, но душный орнамент искусственности им нужен для усугубленья естественных ароматов, испускаемых пахом, подмышками, грудью; так бумажные цветы на резном китайском столике в спальне подчеркивают прелесть живого букета. Арабы гордо пахнут собою, евреи запах уже потеряли, в отличие от оливковых соседей, они стесняются своих прежде сильных желез и мечтают уподобиться прочим, в стерильности погрязшим народам.
Но в резервациях черного мракобесия еще остаются евреи евреями. Подванивающие семейные соты Бней-Брака, заповедники Меа Шеарим, где в нескольких гулких колодцах схоронилась крайняя, с арамейским прозванием, секта — скворечни ярости к государству, затеянному до воцаренья мессии, сладенькое волглое бешенство, я бродил там в канун Судного дня, когда вращали петухов над головами, и тени закона тонули на вечернем ветру в покрывшейся рябью околоплодной воде. Непроходящая беременность женщин, высокомерная истерика мужей, изредка сменяемая гниловатою ласковостью. Судный день отличается от Пурима. Пурим означает избавление от древней истребляющей пагубы, грозившей уничтожить все племя, избавление, неоправданно перенесенное на неиссякаемость национальной истории и якобы воспрявшую национальную душу. В этом скоморошестве с его маскарадными мордами лисиц и овец, размалеванными детскими лицами, хлопушками, лентами и легко смываемой жидкостью для окропления праздных прохожих наглядно притворство, жалкий календарный реванш, желание, переиначив события, развеселиться после проигранной драки. С наступленьем же Судного дня нисходит мощная весомость скорби, парализующая ухватки обыденности, и тело, спеленутое сознаньем в лапту, иные разговаривают с мальчиками, точно с ровесниками. Они не наказывали за невыученные уроки, избегали муштры, пользовались любым предлогом, любым незначительным, пропущенным церковью праздником, чтобы добавить к дежурному обеденному рациону пирожки и вино, необременительно развивали ум прекрасной латынью, всячески баловали питомцев, сознавая ответственность за их ломкое детство, и заботливо помнили о них годы спустя. Отцы-воспитатели покровительствовали карьере своих подопечных, давали здравые советы (кто лучше их успел в терпеливо-проницательном изучении нравов), ободряли письменными посланиями: ты не один, с тобою тепло нашей неоскудевшей привязанности, уже заступники взялись за разрешение твоих невзгод. В Италии, под благосклонным, несжигающим солнцем, я бы счастливо поработал на церков-но-педагогической ниве, в какой-нибудь подкомиссии комитета, будучи тамошним уроженцем, конечно, чтобы никого не наказывать за невыученные уроки и наконец освоить латынь. Йозеф Рот очень мне близок, но я не рискнул, вернувшись из Яффы, повесить над кроватью его фотографию.
Кофе, табак, вообще удовольствия — это для здорового, хотя бы в данный момент, организма. Болезненный, астенический человек у жизни испрашивает фруктового, без кофеиновых возбудителей, чая, которыйдолгое время согревает мои тихие утра наподобие нынешнего (зима на юге, зябкое томление и кости), когда, утопив в английской глиняной кружке пухлый пакетик и чуть подсластив кипяток, добиваюсь успокоительной смеси лимона, грейпфрута, малины, еще двух-трех неизвестных, но равно ублаготворяющих слагаемых, чья доброта позволяет оттаявшим пальцам перелистывать книгу тюремных посланий черного автодидакта — он зажег свою семьдесят пятую сигарету и с мыслью о женщинах, снившихся ему в несвободе, вывел последнюю строчку: «из Дахау с любовью». Скорбный, с полузакрытыми глазами, кортикальными полосами рассеченный Джордж Джексон на обложке «Братьев Соледад». Четыре шекеля у букиниста, дешевле апельсинов на рынке, приятная матовость пингвиновских мягких страничек о трех мирах вражды; уже развалился второй, но живы страдания третьего, в их темные соки, настигая поэзию в ее тайниках, макал свое перо заточник. Юношей похитил он семьдесят долларов и получил год заключения, который в случае дурных помыслов арестанта мог продлеваться администрацией бесконечно, вплоть до пожизненного пребывания неугодного элемента в остроге. Десять лет он оттрубил за решеткой, около восьми из них в одиночке, и удостоился высшей меры социальной защиты от себя самого (с неопределенной отсрочкою приговора) за убийство охранника, совершенное, скорее всего, кем-то другим, половчее, свирепей, у кого был другой очерк скул, губ и лба. Брат-подросток с кошелкою револьверов и короткоствольной винтовкой под стального цвета плащом дерзнул, захвативши заложников, отбить его у американской пенитенциарной системы и был продырявлен, успев выкрикнуть боевой клич повстанцев, а недолго спустя в порыве стихийного возмущения пленников погиб и сам Джордж, но расцвел мученик, меланхолично отмечено в издательской аннотации.