Томас Бернхард - Племянник Витгенштейна
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Томас Бернхард - Племянник Витгенштейна. Жанр: Современная проза издательство неизвестно, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.
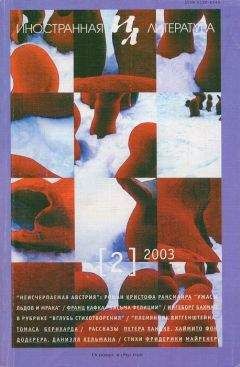
Томас Бернхард - Племянник Витгенштейна краткое содержание
Племянник Витгенштейна читать онлайн бесплатно
Томас Бернхард
Племянник Витгенштейна
История одной дружбы
Сотни две друзей соберутся на мои похороны, и ты должен будешь произнести речь на моей могиле.
~ ~ ~
В тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году на Баумгартнерхёэ[1] одна из сестер милосердия, неутомимо работавших в тамошнем корпусе “Герман”, положила мне на постель мой только что вышедший роман “Помешательство”, который я написал годом раньше в Брюсселе, на Rue de la Croix, 60, но у меня даже не было сил взять эту книжку в руки, потому что всего за пару минут перед тем я проснулся после многочасового наркотического сна, в который погрузили меня врачи, разрезавшие мне горло, дабы извлечь из моей грудной клетки огромный, с кулак величиной, тумор. Как я вспоминаю, тогда шла Шестидневная война, и у меня, в результате радикального курса лечения кортизоном, лицо расплылось, как полная луна, чего и добивались врачи; во время обходов они на свой лад потешались над этим моим “лунным ликом", так что даже я, которому, по их собственным словам, оставалось жить какие-то недели, в лучшем случае месяцы, не мог не смеяться вместе с ними. В корпусе "Герман” на первом этаже было всего семь палат, и тринадцать или четырнадцать лежавших там пациентов дожидались смерти — больше им ждать было нечего. Они слонялись в своих домашних халатах по коридору, пока в один прекрасный день не исчезали навсегда. Раз в неделю в корпусе “Герман” появлялся — неизменно в белых перчатках — знаменитый профессор Зальцер, лучший специалист по легочной хирургии, внушавший всем необыкновенное уважение даже своей манерой ходить, а вокруг него почти бесшумно роились сестры, которые потом сопровождали этого очень рослого и очень элегантного человека в операционную. У профессора Зальцера оперировались пациенты из высших слоев общества, делавшие ставку на его знаменитость (сам я попросил, чтобы меня прооперировал заведующий отделением, коренастый сын крестьянина из Вальдфиртеля);[2] он был дядей моего друга Пауля, племянника того самого философа, чей “Логико-философский трактат” сегодня известен всему научному и в еще большей степени псевдонаучному миру; и как раз когда я лежал в корпусе “Герман”, мой друг Пауль лежал в каких-нибудь двухстах метрах от меня, в корпусе “Людвиг”, который, однако, не относится, как корпус “Герман”, к легочному отделению и, следовательно, к больнице “Баумгартнерхёэ”, а принадлежит к психиатрической лечебнице “Ам Штайнхоф”.[3] На Вильгельминовой горе с ее обширным подножием, находящейся в одном из западных округов Вены и вот уже несколько десятилетий разделенной на две части — часть для легочных больных, которую для краткости именуют “Баумгартнерхёэ” и которая была моей зоной, и часть для душевнобольных, которую все знают как “Ам Штайнхоф” (на меньшую часть — “Баумгартнерхёэ” и большую часть — “Ам Штайнхоф”), — все корпуса обозначены мужскими именами. Мне представлялась гротескной сама мысль, что моего друга Пауля поместили не куда-нибудь еще, а именно в корпус “Людвиг”.[4] Наблюдая, как профессор Зальцер, не глядя по сторонам, устремляется в операционную, я каждый раз вспоминал о том, что мой друг Пауль называл своего дядю иногда “гением”, а иногда “убийцей”; и вот я думал, завидев профессора, когда он входил в операционную или выходил из нее: интересно, кто сейчас заходит туда — гений или убийца; или: кто выходит оттуда — убийца или гений? Эта медицинская знаменитость весьма сильно притягивала к себе мое внимание. Дело в том, что я — до того как попал в корпус “Герман”, который и сегодня отведен исключительно для легочной, и прежде всего так называемой легочно-раковой хирургии — успел перевидать многих врачей и всех их, поскольку это в конце концов вошло у меня в привычку, изучал, однако профессор Зальцер уже с первой минуты, когда я его увидел, этих врачей затмил. Его во всех отношениях великолепная личность оставалась для меня абсолютно непроницаемой, для меня его образ состоял только из того, что меня восхищало непосредственно в то мгновение, когда я за ним наблюдал, — и из ходивших о нем слухов. Профессор Зальцер, как рассказывал мой друг Пауль, уже многие годы творил чудеса, пациенты без малейшего шанса на выживание жили после зальцеровских операций десятилетиями, однако другие пациенты, опять-таки по словам моего друга Пауля, умирали у него под ножом — вследствие, скажем, внезапных непредвиденных перемен погоды, заставлявших профессора нервничать. Так всегда и бывает. Я не захотел, чтобы меня оперировал профессор Зальцер, который действительно был мировой знаменитостью и к тому же дядей моего друга Пауля, именно потому, что он так сильно меня интересовал, и еще потому, что его абсолютная мировая слава внушала мне лишь неодолимый ужас, из-за которого — а также из-за того, что я услышал от моего друга Пауля о его дяде Зальцере — я в конце концов и предпочел скромного заведующего отделением, уроженца Вальдфиртеля, мировой знаменитости из Первого округа.[5] Кроме того, в первые недели моего пребывания в корпусе “Герман” я постоянно замечал, что умирали во время операции именно те пациенты, которых оперировал профессор Зальцер; возможно, это был неудачный период для мировой знаменитости, но я, естественно, испугался и сделал выбор в пользу заведующего отделением из Вальдфиртеля, что, как я теперь понимаю, определенно пошло мне на пользу. Впрочем, гадать об этом бессмысленно. Как бы то ни было, если сам я видел профессора Зальцера по меньшей мере раз в неделю, пусть даже сначала только через приоткрытую дверь, мой друг Пауль, которому профессор Зальцер, в конце концов, приходился дядей, за много месяцев, проведенных в корпусе “Людвиг”, не видел его ни разу, хотя, скорее всего, профессор Зальцер знал, что его племянника положили в корпус “Людвиг”, и, как я тогда думал, профессору Зальцеру не стоило бы никакого труда пройти пару шагов от корпуса “Герман” до корпуса “Людвиг”. Причины, которые мешали профессору Зальцеру навестить своего племянника Пауля, мне неизвестны; может быть, это были веские причины, а может, только соображения личного удобства не позволили ему зайти к племяннику, ведь тот, в отличие от меня, попавшего в корпус “Герман” впервые, лечился в корпусе “Людвиг” уже много раз. Дело в том, что моего друга (в последние двадцать лет его жизни) как минимум дважды в год — всегда по срочному вызову и всегда при самых ужасных обстоятельствах — помещали в психиатрическую больницу “Ам Штайнхоф”, и еще, по мере прогрессирования его болезни все чаще, — в так называемую лечебницу Вагнера-Яурегга[6] под Линцем, если приступ заставал его в Верхней Австрии, в окрестностях Траунзе,[7] где он родился и вырос и где, вплоть до своей смерти, владел старым, всегда принадлежавшим семейству Витгенштейнов крестьянским домом. Душевная болезнь Пауля, которую можно обозначить лишь как так называемую душевную болезнь, обнаружилась очень рано, когда ему еще не исполнилось тридцати пяти. Он сам почти ничего об этом не рассказывал, однако из того, что я знаю о моем друге, нетрудно составить себе представление и о возникновении его так называемой душевной болезни. Уже в ребенке Пауле была заложена эта так называемая душевная болезнь, но ее точный характер никто никогда не определил. Пауль и родился как душевнобольной, с этой так называемой душевной болезнью, которая потом владела им на протяжении всей жизни. С этой так называемой душевной болезнью он вплоть до своей смерти жил совершенно спокойно и уверенно — как другие живут без душевной болезни. Однако по мере развития этой его так называемой душевной болезни самым удручающим образом обнаруживалась беспомощность врачей и медицинских наук вообще. Медицинская беспомощность врачей и их наук проявлялась в том, что так называемой душевной болезни Пауля вновь и вновь давали самые интригующие определения, но, разумеется, никогда не определяли болезнь правильно, ведь врачи с их безголовостью на это просто не способны, и все их определения, касавшиеся так называемой душевной болезни моего друга, вновь и вновь оказывались неправильными, прямо-таки абсурдными, и вновь и вновь одни определения самым постыдным, самым удручающим образом исключали другие. Так называемые врачи-психиатры определяли болезнь моего друга каждый раз по-разному, не имея мужества признать, что для этой болезни (да и для всех других) нет правильного определения, те же, что имеются, — всегда только ложные, только вводят в заблуждение; в конечном счете эти врачи, как и все другие, старались с помощью новых и новых неправильных диагнозов в какой-то мере облегчить себе жизнь, в идеале же — пусть и во вред пациенту — сделать ее для себя удобной. Они чуть ли не каждую минуту произносили слово “маниакальный”, чуть ли не каждую минуту произносили слово “депрессивный”, а это в любом случае не соответствовало действительности. Чуть ли не каждую минуту они (как и все другие врачи!) прибегали к научным словечкам, чтобы защитить и обезопасить себя (но не пациента!). Подобно всем другим врачам, те врачи, что лечили Пауля, прятались за латынью, которую постепенно воздвигали между собой и своим пациентом словно непреодолимую и непробиваемую стену, как делали и их предшественники на протяжении многих столетий, — с единственной целью затушевать собственную некомпетентность и, напустив туману, скрыть свое шарлатанство. Словно стеной — незримой, однако более, чем все другие, непроницаемой — отгораживаются они латынью от своих жертв уже с самого начала лечения, методы которого, как мы знаем, могут быть только бесчеловечными, и преступными, и смертоносными. Врач-психиатр — самый некомпетентный из всех врачей и всегда больше похож на убийцу-садиста, чем на ученого-медика. Всю жизнь я панически боялся попасть в руки врачей-психиатров, в сравнении с которыми любые другие врачи, в конечном счете всегда приносящие только вред, гораздо менее опасны: потому что психиатры в нашем сегодняшнем обществе образуют совершенно замкнутую, отгороженную от мира касту: и после того как я в течение стольких лет имел возможность изучать их бессовестные методы на примере моего друга Пауля, мой страх только усилился. Врачи-психиатры — это поистине бесы нашего времени. Они занимаются своим делом вдали от посторонних глаз, в самом прямом смысле — внаглую — бесконтрольно, то есть не отчитываясь ни перед законом, ни перед собственной совестью. Когда мне уже можно было вставать и подходить к окну, потом даже выходить из палаты и со всеми другими ходячими смертниками прогуливаться туда-сюда по коридору, я наконец однажды вышел из корпуса “Герман” и попытался добраться до корпуса “Людвиг". Однако я переоценил свои силы и вынужден был остановиться уже у корпуса “Эрнст". Мне пришлось присесть там на привинченную к стене скамью и для начала успокоиться, иначе я вообще не смог бы самостоятельно вернуться к корпусу “Герман”. Если пациенты лежат в постели несколько недель или даже месяцев, то они, когда снова начинают вставать, чудовищно переоценивают свои силы, берут на себя слишком большие нагрузки и, случается, из-за собственной глупости оказываются отброшенными на недели назад; многие такими внезапными вылазками сами приближают смерть, которой избежали во время операции. Хотя я болею с детства и мне всю жизнь приходилось жить со своими более или менее тяжелыми и тяжелейшими, а в итоге и с так называемыми неизлечимыми болезнями, я очень часто вел себя как больной-дилетант и совершал непростительные глупости. Сперва позволить себе пару шагов, потом четыре или пять, потом десять или одиннадцать, потом тринадцать или четырнадцать и только потом двадцать или тридцать — так должен действовать больной, а не вставать и сразу выходить на воздух, что в большинстве случаев смертельно опасно. Однако больной, которого несколько месяцев продержали взаперти, все эти месяцы стремился на волю; под конец он уже не в силах дождаться, когда ему действительно можно будет надолго оставить палату, и, естественно, не удовлетворяется парой шагов по коридору — нет, он сразу спешит на улицу и сам себя гробит. Очень многие умирают, потому что после болезни слишком рано вышли, а вовсе не из-за бессилия врачебного искусства. Врачей можно упрекать в чем угодно, однако по сути они (даже самые равнодушные, безответственные или глупые) хотят, конечно, лишь одного — улучшить состояние своих пациентов; но ведь и пациент должен внести посильную лепту, а не пускать насмарку усилия врачей, встав с постели слишком рано (или слишком поздно!) или слишком рано отправившись на первую прогулку — и сразу слишком далекую. Я в тот раз определенно ушел слишком далеко, даже корпус “Эрнст” — это было слишком. Мне следовало повернуть назад уже у корпуса “Франц”. Но я хотел непременно увидеть моего друга. В полном изнеможении, задыхаясь, сидел я на скамейке перед корпусом “Эрнст” и сквозь просветы между стволами деревьев смотрел на корпус “Людвиг”. Может быть, поскольку я легочник, а не душевнобольной, меня бы даже и не пустили в корпус “Людвиг”, думал я. Легочным больным было строжайше запрещено покидать свою зону и пытаться проникнуть в зону душевнобольных, как и наоборот, душевнобольным — в зону легочников. Две эти зоны разделяла высокая решетка, однако она местами сильно проржавела, повсюду образовались большие дыры, через которые нетрудно было пробраться из одной зоны в другую, по крайней мере ползком, и я хорошо помню, что каждый день душевнобольные бродили по зоне легочных больных, и наоборот, в зоне душевнобольных всегда было полно легочников, однако тогда, когда я впервые попытался дойти от корпуса “Герман” до корпуса “Людвиг”, я еще ничего не знал об этом каждодневном сообщении между зонами. Зато потом я сплошь и рядом сталкивался с душевнобольными в так называемой легочной зоне, по вечерам санитары приходили отлавливать их, засовывали в смирительные рубашки и резиновыми дубинками — я своими глазами видел — гнали из легочной зоны обратно в зону душевнобольных; жалобные крики жертв этой процедуры преследовали меня даже по ночам, во сне. Легочные же больные покидали свою зону и проникали в зону душевнобольных только из любопытства, потому что каждый день мечтали пережить нечто сенсационное, что помогло бы им скоротать ужасные дни, заполненные томительной скукой и всегда одинаковыми мыслями о смерти. И действительно, я не обманывался, у меня был свой расчет, когда я покинул легочную зону и отправился к зоне душевнобольных, которые бродили по всей территории больницы и, чтобы не привлекать к себе внимания, срывали пришитые к их одежде номера. Возможно, позже, в другой книге, я еще рискну описать порядки, царившие в этом психиатрическом отделении, и безобразия, свидетелем коих мне довелось быть. Но тогда я сидел на скамейке перед корпусом “Эрнст" и думал, что вторую попытку добраться до корпуса “Людвиг” смогу предпринять не раньше чем через неделю; ибо для меня было очевидно: сейчас сил хватит только на то, чтобы вернуться в корпус “Герман”. Со своей скамьи я наблюдал за белками, которые повсюду в этом громадном, а с моего места казавшемся бесконечным парке прыгали с деревьев на землю и обратно и, казалось, имели лишь одну заботу — подбирать валявшиеся повсюду выброшенные легочными больными бумажные носовые платки и потом шебуршить ими на деревьях. Повсюду бегали белки с этими бумажными платками, во всех направлениях, и даже в сумерках можно было видеть мелькающие белые пятнышки — платки, которые они держали в зубах. Я сидел и наслаждался этим зрелищем, естественно связывая с ним мои как бы самопроизвольно рождавшиеся мысли. Был июнь, и окна корпусов оставались открытыми, а из окон — в поистине гениально задуманном и выстроенном полифоническом ритме — пациенты выхаркивали свою слизь в вечерние сумерки. Я не хотел злоупотреблять терпением сестер, а потому встал и побрел обратно к корпусу “Герман”. После операции, думалось мне, я действительно дышу лучше, даже, по правде говоря, вполне сносно, и сердце освободилось от лишней нагрузки, — но перспектива у меня была не очень обнадеживающая, слово “кортизон” и связанная с ним терапия омрачали мои мысли. Однако это не значит, что я проводил все дни с ощущением безнадежности. Я просыпался с ощущением безнадежности, и пытался от этой безнадежности избавиться, и избавлялся от нее к середине дня. После обеда ощущение безнадежности возвращалось, ближе к вечеру снова исчезало, ночью, когда я просыпался, оно, естественно, опять было тут как тут и мучило меня еще беспощаднее, чем прежде. Поскольку врачи обращались с пациентами, смерть которых мне потом довелось наблюдать, точно так же, как со мной, и обменивались с ними теми же словами, и вели такие же разговоры, и даже шутили так же, как со мной, я думал, мой путь будет более или менее таким же, как путь этих уже умерших людей. В корпусе “Герман” умирали незаметно, без крика, без призывов о помощи, по большей части совершенно беззвучно. Просто рано утром ты видел в коридоре очередную пустую койку, уже застеленную свежим бельем для следующего пациента. Сестры улыбались, когда мы проходили мимо, не желая нас волновать. Я иногда спрашивал себя: почему же я хочу свернуть с предназначенного мне пути, почему не вписываюсь в колею, по которой следуют все другие? К чему это желание в момент пробуждения — не дать себе захотеть умереть. — к чему? Конечно, я и сегодня часто спрашиваю себя, не лучше ли было бы — в тех обстоятельствах — сдаться; тогда я точно прошел бы мой путь в кратчайший срок, загнулся бы за пару недель, в этом я совершенно уверен. Но я не умер, а продолжал тянуть свою лямку и вот живу до сих пор. Я воспринял как доброе предзнаменование тот факт, что мой друг Пауль оказался в корпусе “Людвиг” тогда же, когда я — в корпусе “Герман” (хотя сам Пауль в первое время моего пребывания в корпусе “Герман” не подозревал, что я там лежу, а узнал об этом только позднее, из болтовни нашей общей приятельницы Ирины, навещавшей поочередно нас обоих). Я думал, что если мой друг уже много лет проводит по нескольку недель или месяцев в году — все более удлиняя эти сроки — в “Штайнхофе”, но каждый раз выходит оттуда, значит, и я тоже выйду, хотя его нельзя сравнивать со мной, ни в каких смыслах; но я все равно мечтал: вот пробуду здесь еще несколько недель или месяцев, а потом выпишусь, как выписывался он. Так и получилось. Через четыре месяца я смог наконец покинуть “Баумгартнерхёэ”, я не умер, как другие, а Пауль к тому времени уже давно был на воле. Однако в тот день, о котором идет речь, по пути от корпуса “Эрнст” к корпусу “Герман” я еще вполне серьезно думал о смерти. Я не верил, что смогу живым выбраться из корпуса “Герман”: слишком многого я там насмотрелся и наслушался, да и в себе самом не ощущал ни малейшего проблеска надежды. Вопреки расхожему мнению, сумерки не приносили облегчения, а; наоборот, еще более отягощали мое состояние, делая его почти непереносимым. После того как дежурная сестра прочитала мне выговор и высказала все, что думала по поводу моего безответственного поведения, моего глупейшего проступка, я рухнул на постель и тотчас заснул. Однако в “Баумгартнерхёэ” мне не удавалось проспать от начала до конца ни одной ночи, в корпусе “Герман” я обычно просыпался уже через час: либо испуганный сном, который, как все мои сны, приводил меня на край пропасти, где мое существование обрывалось; либо разбуженный возней в коридоре, если больной из ближайшей палаты нуждался в срочной помощи или умирал; либо когда мой сосед пользовался уткой, чего он никогда не делал без шума: хотя я многократно объяснял ему, как этого избежать, он неизменно (и не один раз) задевал своей уткой о мою железную тумбочку, за что столь же неизменно выслушивал выговоры (я снова и снова учил его, как он должен обращаться со своей уткой, чтобы меня не будить, но мои усилия пропадали впустую); и соседа с другой стороны, со стороны двери (сам я лежал у окна), он тоже будил — господина Иммерфоля, полицейского, страстного игрока в “двадцать одно”, который и меня пристрастил к этой игре, так что я до сего дня не могу от нее отвыкнуть и часто, играя, дохожу чуть ли не до грани безумия, настоящего сумасшествия; а как известно, пациент, который вообще не засыпает без снотворного — да к тому же лежит в такой больнице, как “Баумгартнерхёэ”, куда помещают только тяжелых и тяжелейших больных, — если его разбудить, больше заснуть не может. На соседней с моей койке лежал студент факультета теологии, сын судьи из Гринцинга,[8] точнее, с улицы Шрайбервег — то есть его дом находился в одном из самых аристократических и дорогих районов Вены, и он был весьма и весьма избалованным молодым человеком. Он еще никогда не жил в одной комнате с другими людьми, и я наверняка был первым, кто обратил его внимание на то, что человек, если находится в одном помещении с другими, само собой, должен относиться к этим другим с абсолютным уважением — тем более если он изучает теологию. Однако его вряд ли можно было чему-то научить, по крайней мере в первое время; он попал в палату после меня, и тоже в безнадежном состоянии: ему — точно так же, как мне и всем другим, — сделали разрез на горле и удалили тумор; во время операции бедняга был, как говорится, на волосок от смерти, а оперировал его тот самый профессор Зальцер. Но это, конечно, не означает, что, если бы его оперировал другой хирург, он не оказался бы так близко к смерти. Наверное, он студент-теолог, подумал я, когда парень попал в нашу палату: сестры милосердия баловали его бесстыднейшим образом; и если ему они старались угодить всеми возможными способами, то мною и полицейским Иммерфолем столь же явно пренебрегали. Например, рано утром очередная дежурная сестра клала или ставила на тумбочку студента-теолога все то, что ей подарили ночью другие пациенты: шоколад, бутылки с вином, всякие сладости из города (естественно, всегда из первоклассных кондитерских — из “Демеля”,[9] из “Лемана”, из не менее знаменитой “Слуки”, что расположена рядом с ратушей); и ему всегда приносили не одну, как положено и как получали мы, а целых две порции шадо[10] — того самого шадо, которое я и сегодня люблю больше всего на свете и которое пациентам корпуса “Герман” давали регулярно, потому что в корпусе “Герман” лежали только смертельно больные люди, а обычай подавать в постель шадо характерен именно для обращения со смертельно больными. Но я очень быстро отучил студента от многих нехороших привычек, за что полицейский Иммерфоль, которого, как и меня, невыносимо раздражал эгоизм нашего нового соседа по палате, был мне весьма признателен. Мы с Иммерфолем, как опытные больные, уже давно вжились в подобающую нам роль людей незаметных, чутких к другим, скромных, потому что только эта роль позволяет долго жить в состоянии болезни, тогда как строптивость, невоспитанность, упрямство со временем ослабляют организм буквально смертельно, и, следовательно, хронический больной не может позволить себе долго сохранять эти качества. Зная, что наш студент на самом деле вполне способен встать и дойти до туалета, я в один прекрасный день запретил ему пользоваться уткой. И тем сразу же настроил против себя сестер, которые, разумеется, утку студента-теолога опорожняли с удовольствием; но я все равно настоял на том, чтобы он вставал и выходил в туалет, ибо не понимал, почему я и Иммерфоль должны вставать и выходить, чтобы помочиться, тогда как студент-теолог может оставаться в постели и пользоваться уткой, отравляя воздух в палате, и без того нестерпимо удушливый. И я добился своего: студент-теолог, чье имя я забыл (кажется, его звали Вальтер, но я уже точно не помню), стал ходить в уборную, а сестры в течение многих дней не удостаивали меня даже взглядом. Но мне было наплевать. Я упорно копил силы, чтобы навестить моего Пауля, устроить ему сюрприз; однако после первой неудачной попытки, когда мне пришлось уже у корпуса “Эрнст” отказаться от своего намерения и вернуться назад, я сознавал, что до этого еще очень далеко. Я лежал в постели, и смотрел в окно, и видел один и тот же световой блик в гигантской сосновой кроне. Там, во дворе, солнце всходило и вновь спускалось за горизонт, а я целую неделю не мог набраться мужества, чтобы выйти из палаты. Наконец меня посетила, посетив предварительно моего друга Пауля, наша общая приятельница Ирина, в квартире которой на Блуменштокгассе я и познакомился с Паулем Витгенштейном: я тогда ввязался в спор о том, как Шурихт дирижировал Хаффнеровской симфонией[11] в исполнении Лондонского филармонического оркестра, — спор, который пришелся очень кстати, потому что я, как и мои собеседники, только накануне слышал, как Шурихт дирижировал этой симфонией в Обществе друзей музыки,[12] и у меня создалось впечатление, что я еще никогда за всю мою музыкальную жизнь не присутствовал на столь безупречном концерте. Мы трое — я, Пауль и его приятельница Ирина, в высшей степени музыкальная особа и вообще, в чем я абсолютно уверен, одна из самых выдающихся ценительниц искусства, — получили одинаковое наслаждение от концерта. В ходе нашего спора, в котором, естественно, речь шла не о самых принципиальных, но все же о достаточно значимых моментах (произведших на нас троих неодинаковое впечатление и воспринятых нами с разной степенью интенсивности), за несколько часов как бы сама собой завязалась моя дружба с Паулем. Прежде я в течение многих лет постоянно видел его в разных местах, но мы ни разу не разговаривали; именно на Блюменштокгассе, высоко — на четвертом этаже дома без лифта, построенного на рубеже веков, — завязались наши дружеские отношения. Там была огромная комната с простой, но удобной мебелью, где мы трое несколько часов — до полного изнеможения — говорили о Шурихте, моем любимом дирижере, и о Хаффнеровской симфонии, моей любимой симфонии, и об этом решающем для нашей дружбы концерте. Всепоглощающая страсть Пауля Витгенштейна к музыке (эта страсть была свойственна и нашей приятельнице Ирине) сразу расположила меня к нему; а его фантастические познания относительно больших оркестровых произведений Моцарта и Шумана, его — очень скоро начавшее тревожить меня — фанатичное пристрастие к опере (о котором знала вся Вена и которое не просто внушало опасения, но, как потом выяснилось, обладало всеми признаками смертельной болезни), наконец, его превосходное художественное образование, не только специально музыкальное, но и общее (Пауль, например, чуть ли не непрерывно сравнивал музыкальные произведения, которые слушал, концерты, которые посещал, игру виртуозов и оркестры, им изученные, причем суждения его, как я вскоре убедился, всегда бывали в высшей степени справедливыми), — все это позволило мне легко сойтись с Паулем Витгенштейном и принять его как моего нового совершенно необычного друга. Наша приятельница Ирина, чья судьба была не менее удивительна и авантюрна, чем судьба Пауля Витгенштейна, — она, например, имела так много любовных связей и так часто меняла мужей, что ее партнеров нельзя было пересчитать по пальцам, — в те тяжелые дни на Вильгельминовой горе часто навещала нас, приходила в своем красном жакете на Вильгельvинову гору, совершенно не заботясь о расписании посещений. К сожалению, она, как я уже говорил, проболталась Паулю о том, что я лежу в корпусе “Герман”, после чего я, даже если бы внезапно появился в корпусе “Людвиг”, уже не мог рассчитывать на эффект неожиданности. Этой-то Ирине, недавно вышедшей замуж за так называемого музыковеда и вступившей в полосу бургенландской[13] идиллии, я в конечном счете и обязан своей дружбой с Паулем. Я подружился с ним за два или три года до того, как попал в корпус “Герман”, и тот факт, что на Вильгельминовой горе мы оба в очередной раз — одновременно — оказались, так сказать, на грани завершения жизненного пути, представлялся мне неслучайным. Не то чтобы я придавал этому обстоятельству мистическое значение. Просто, находясь в корпусе “Герман”, я часто думал о том, что в корпусе “Людвиг” у меня есть друг и, значит, я не одинок. Однако, по правде говоря, в те дни, и недели, и месяцы, которые мне пришлось провести в “Баумгартнерхёэ”, я и без Пауля не был бы одинок, потому что со мной оставался самый близкий человек, самый важный для меня (после смерти моего деда) человек в Вене, моя подруга жизни, которой я обязан — с той самой минуты, более тридцати лет назад, когда она вдруг появилась рядом, — не только очень многим, но, по сути, почти всем. Без нее я бы вообще уже не жил; или, в любом случае, не был бы таким, каков я сегодня: таким сумасшедшим и таким несчастным, но и таким счастливым. Посвященные в мою жизнь знают, что скрывается за этим убеждением — самый близкий человек, — оно (и ничто другое, такова правда) вот уже тридцать лет снова и снова дает мне силы, чтобы жить дальше. Эта женщина, которая во всех отношениях была для меня примером, умная, ни разу не оставившая меня в беде ни на один значимый миг; женщина, от которой в последние тридцать лет я научился почти всему или по крайней мере научился понимать почти все, — она тогда навещала меня чуть ли не ежедневно и подолгу сидела у моей постели. С целыми ворохами книг и газет она, несмотря на нестерпимую жару, все-таки взбиралась на Баумгартнерхёэ — и попадала в ту тяжкую атмосферу, характер которой можно не объяснять. А ведь этому самому близкому мне человеку тогда уже было больше семидесяти. Но и сегодня, когда ей восемьдесят семь, думаю, она вела бы себя точно так же. Однако не ей, не самому близкому мне человеку посвящены настоящие заметки, а Паулю; и хотя в тот период, когда я лежал на Вильгельминовой горе, она тоже была одинока, отвергнута, списана со всех счетов (и все-таки продолжала играть важнейшую роль в моей жизни, в моем существовании), настоящие заметки относятся в первую очередь к моему одинокому, отвергнутому и списанному со всех счетов другу Паулю, который одновременно со мной лечился на Вильгельминовой горе и которого я хочу еще раз попытаться понять, собирая для этих заметок клочки воспоминаний: они, оживив прошлое, помогут прояснить не только безысходную ситуацию моего друuа, но и мою собственную тогдашнюю безысходность, потому что точно так же, как Пауль тогда попал в один из своих жизненных тупиков, так же и я попал (или, лучше сказать, был загнан) в один из моих жизненных тупиков. Должен сознаться, я, как и Пауль, тогда в очередной раз предъявил слишком большие требования к своему существованию, и переоценил свои силы, и исчерпал их до дна. Как и Пауль, я в очередной раз исчерпал все мои возможности, исчерпал и все дополнительные ресурсы сверх всяких возможностей, с болезненной беспощадностью к себе самому и ко всему остальному — беспощадностью, которая уже угробила Пауля и которая однажды, точно так же как Пауля, угробит и меня; ибо как Пауль погиб от губительной переоценки себя самого и окружавшего его мира, так же и я рано или поздно погибну от губительной переоценки меня самого и окружающего меня мира. Так же как Пауль, и я сам просыпался тогда на Вильгельминовой горе — на больничной койке, — представляя собой уже почти разложившийся продукт этой переоценки себя и мира; и вполне логично, что Пауль оказался в психиатрической лечебнице, а я — в легочном отделении, то есть Пауль — в корпусе “Людвиг”, а я — в корпусе “Герман”. Как Пауль на протяжении многих лет более или менее интенсивно гнал себя к смерти в своем безумии, так же и я более или менее интенсивно годами гнал себя к смерти — в моем. Как путь Пауля вновь и вновь должен был заканчиваться, обрываться в психиатрической лечебнице, так же и мой путь вновь и вновь должен был заканчиваться, обрываться в легочном отделении. Как Пауль вновь и вновь проявлял величайшее упрямство по отношению к себе самому и к своему окружению, и потому его периодически сдавали в психиатрическую лечебницу, так же и я вновь и вновь проявлял величайшее упрямство по отношению к себе самому и к моему окружению, и потому меня периодически сдавали в легочное отделение. Как Пауль вновь и вновь — и, надо думать, со все более короткими промежутками — внезапно начинал испытывать отвращение к себе самому и к миру, так же и я — со все более короткими промежутками — внезапно начинал испытывать отвращение к себе самому и к миру; и тогда я, можно сказать, в очередной раз возвращался к себе в легочное отделение, точно так же, как Пауль — в психиатрическую лечебницу. И как Паулю врачи-психиатры по большому счету всегда причиняли вред и он каждый раз поднимался на ноги только благодаря собственной энергии, так же и мне врачи-пульмонологи всегда причиняли вред и я поднимался на ноги только благодаря собственной энергии; должен сказать, что как на его личность оказали глубокое воздействие психиатрические лечебницы, так же, думаю, и на мою личность оказали глубокое воздействие отделения легочной терапии; и как его на протяжении больших отрезков жизненного пути воспитывали психи, так же и меня воспитывали легочные больные; и как он окончательно сформировался, стал личностью в обществе психов, так же и я окончательно сформировался в обществе легочных больных — а формирование личности среди психов не многим отличается от формирования личности среди легочных больных. Психи самым решительным образом обучали его жизни и существованию — а меня с той же решительностью, с какой его учили быть психом, легочные больные учили быть легочным больным; и Пауль, можно сказать, стал психом, потому что в один прекрасный день, если воспользоваться расхожим выражением, потерял контроль над собой, — точно так же, как я стал легочным больным, потому что тоже в один прекрасный день потерял контроль над собой. Пауль стал психом, потому что однажды восстал против всего, и, естественно, это его погубило — как и меня в один прекрасный день погубило то, что я, как и он, восстал против всего; именно по той причине, по какой я стал легочным больным, он стал психом. Но Пауль был психом не в большей мере, чем я, ибо я был (в лучшем случае) таким же психованным, как Пауль, таким же психом, каким, говорят, был Пауль, — но только я вдобавок к психованности, то есть безумию, подцепил еще и легочное заболевание. Разница между Паулем и мной заключается только в том, что Пауль позволил своему безумию полностью им овладеть, тогда как я никогда не позволял моему — столь же глубокому, как у него, — безумию полностью овладеть мною; он, так сказать, растворился в своем безумии, тогда как я на протяжении всей жизни пользовался своим безумием, подчинял его себе; если Пауль никогда не подчинял себе свое безумие, то я свое безумие всегда себе подчинял, и, может быть, именно поэтому мое безумие стало гораздо более безумным, чем безумие Пауля. Пауль имел только свое безумие — и существовал за счет своего безумия; я же вдобавок к моему безумию имел еще и легочную болезнь и использовал то и другое, и безумие и легочную болезнь: я их сделал источником своего существования — однажды и на всю жизнь. Как Пауль десятилетиями жил жизнью безумца, так и я десятилетиями жил жизнью легочного больного; и как Пауль десятилетиями играл роль безумца, так и я десятилетиями играл роль легочного больного; и как он использовал роль безумца в своих целях, так и я использовал роль легочного больного в моих целях. Подобно тому, как другие на протяжении долгого времени или всей жизни пытаются приобрести и сохранить какую-нибудь более или менее большую собственность или какое-нибудь более или менее высокое (или действительно высокое) профессиональное мастерство и, пока живут, всеми средствами и при всех обстоятельствах стараются использовать эту собственность и это профессиональное мастерство и делают их единственным содержанием своей жизни, так же и Пауль на протяжении всей жизни защищал, и поддерживал, и использовал свое безумие — и при всех обстоятельствах и всеми средствами делал его содержанием своей жизни; как и я использовал и делал содержанием моей жизни мое безумие, а в конечном счете и мое профессиональное мастерство, проистекавшее, так сказать, из этой легочной болезни и из этого безумия. Но как Пауль обращ
Похожие книги на "Племянник Витгенштейна", Томас Бернхард
Томас Бернхард читать все книги автора по порядку
Томас Бернхард - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки My-Library.Info.




