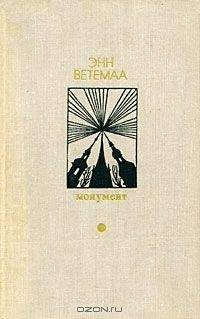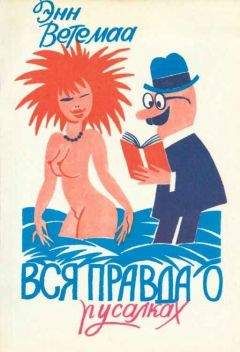Мати не спалось. Хотелось курить. Он осторожно выбрался из постели.
— Сперва стакан молока выпей, если там есть, — его намерение было разгадано.
Вероника проснулась так же бесшумно, как спала. В утреннем сумраке потонули ее года, и она, еще больше чем днем, казалась женщиной без возраста; ее лицо было фарфоровым.
— Я посмотрю.
Мати направился в крохотную кухню. В дверях он оглянулся. Вероника не повернула голову, продолжала глядеть в потолок. Укрытая одеялом до подбородка, она лежала прямая, неподвижная; эта женщина и во сне была напряжена. Ее платье, для лета слишком плотное, строгого фасона, под стать владелице, одеревенев, застыло на плечиках, под ним ровно стояли туфли. Из-за своей болезни Вероника всегда носила закрытые платья с длинными рукавами, так что у этой второй, вертикальной Вероники не хватало только икр, ладоней и головы.
Мати присел на табуретку. Закурил, распахнул окно. Где-то рождалось июньское утро, в предчувствии его рождения деревья притихли, даже слабая рябь не морщила гладь небольшого декоративного пруда. Природа ожидала дня робко и терпеливо.
Май и июнь — подготовительный период. Эти месяцы особенно насыщены спешкой и неприятностями; уже ставшие привычными скитания из конца в конец Эстонии наводили тоску; вроде бы хотелось остановиться, осмотреться, начать все сначала. Здесь, под окном, у каждой былинки свое прочное место. Наивно оптимистическое, самоуверенное пробуждение природы, эта бестрепетная вера в себя, беспечный апломб, эта мягкая утренняя прохлада, приводящая соки в движение, вызывали раздражение. Растет этакий крошечный листочек, словно вырезанный из влажной шелковистой бумаги, дотронешься — прилипнет к пальцу, и, смотри-ка, он твердо знает, чего хочет. Никаких проблем, все ему ясно.
Остро пахла пеларгония на подоконнике. Неприятный солоноватый запах почему-то напоминал о минувшей ночи.
Каковы, собственно, планы Вероники? До сих пор она. никогда не оставалась у него ночевать. Ей, конечно, известно, что у Мати с Марет отношения серьезные, дело идет к естественной развязке — к свадьбе, но разве это хоть в какой-то степени тревожит Веронику? А может, она на что-то претендует? Вероника, директор съемочной группы (должность, в сущности, административная), подыскала для него крохотную квартирку на время съемок; Мати задумался: в курортном месте и комнату-то найти трудно, а тут… Нет, определенно у Вероники есть какие-то планы. Правда, формально эта квартира предназначена для двоих, он занимает ее вместе с редактором фильма, но ведь редакторы обычно на съемках не задерживаются. Практически квартира принадлежала ему, Мати, а также, естественно, Веронике. Они уже несколько лет, как теперь принято говорить, близкие друзья, хотя их эпизодические встречи по большей части быстротечны и торопливы. К тому же у Вероники имеется муж, правда, говорят, старый.
Тихо прошелестела листва, матовая поверхность пруда покрылась рябью, хмурое зеленоватое небо придало воде цвет ртути, казалось, что она тяжелая и ядовитая. Мати сплюнул.
В такие утра сам себе противен. Он разглядывал свою руку: темные с рыжеватыми оттенками волоски покрывали вторую и даже третью фалангу пальцев. Руки сутенера, лапающие руки, подумал он. Как только Вероника выносит их прикосновения…
Грудь мою и ноги густая шерсть покрыла.
Все в деревне нашей зовут меня гориллой.
Автор этого стихотворения сетовал, что никто из окружающих не знает о его нежной, как у птички, душе. У Мати была другая беда: все знали о его добром сердце. Горилла с птичьей душой. Делает то, что другим угодно. Протест Мати выражается в том, что он краснеет и начинает заикаться. Но заикается он почти всегда от неумения отстоять свою правоту.
В оконном стекле отражалась грустная лошадиная физиономия, темные глаза, кудри, от которых не только у школьниц дух захватывало. «Ну скажи нам, парень, прямо, ты в кого такой кудрявый?» — пели в детском доме. Да, никто этого не знал — Мати был сиротой военного времени. С фотографии, сделанной в детском доме, на Мати смотрела ижорка по имени Люба, их рябая повариха. Сонная, широколицая, в дешевых деревянных бусах. Люба заботилась о Мати больше, чем о других. В ранних воспоминаниях Мати видит себя на кухне старой мызы, высокий сводчатый потолок, желтые пятна сырости на стенах, на столе синяя клеенка; Люба в белом халате, флегматичная великанша, крутится по кухне, словно мяч по волнам, сыплет что-то в котел. Горох — желтый град, крупа — дождь, манка — снег.
На кухонном окне растопырилось алоэ — в воспоминаниях оно огромное, такие деревья, наверное, растут на том оранжевом, похожем на тюрбан материке со звучным и просторным названием «Африка».
Люба пела протяжно:
Ol' kaunis kesailta,
kun laaksossa kavelin.
Siell' kohtasin ma neidon,
jot aina muistelin… [1]
И в один прекрасный kesailta (летний вечер) повесилась на чердаке. Обыкновенная история, поговаривали, что в ней был замешан молодой садовник, после Любиной смерти он донашивал ее огромные стоптанные башмаки. Сорок второго размера. Когда Мати увидел рыжего садовника в этих башмаках, он забился в кусты живой изгороди, там его нашли только к ночи, насилу вытащили. Говорили, что он искусал тех, кто его вытаскивал.
«Ну скажи нам, парень, прямо…» — кудрявый он, по всей вероятности, в отца.
Жесткие волосы и смуглая кожа вроде бы свидетельствовали о южной крови. Но от кого именно унаследована бессмертная идиоплазма, которая в нем заложена и которую он когда-нибудь, возможно, передаст своему ребенку (ах, кто это может знать наперед!), навсегда останется тайной. От кого унаследованы гены, создавшие пальцы на его руках немножко молоточковыми? Мы не знаем, откуда пришли и куда идем, мы не знаем, почему пришли и почему уйдем, — эта мысль, вычитанная в одной книге по философии, изданной в начале века, крепко засела у Мати в голове. Она полностью относится к нему.
Вспомнился прерываемый смехом старый анекдот: «…а когда утром шлюха заговорила о деньгах, он щелкнул каблуками и сказал: гвардейский офицер с женщин денег не берет!» Да, щелкнул каблуками, подкрутил нафабренные усы и был таков.
Может быть, завязка была именно в таком роде. И где-то в утробе матери началось формирование молоточковых пальцев и головы, которую ученые деликатно именуют долихоцефальной, а простые люди — лошадиной, но исток заикания, несомненно, не там. У заикания был другой пращур — мелкорослый воспитатель с густыми бровями по прозвищу Сморчок. Говорил он басом, на терцию ниже естественного голоса. Чтобы увеличить свой рост, Сморчок носил штиблеты на толстой подметке. Своим заиканием Мати обязан заботе и стараниям именно этого человека.
История началась с дырочки в стене — в стене душевой для девочек; с другой стороны был чулан. Мати понятия не имел об этой дырочке, к тому же в ту пору она не представляла для него никакого интереса, просто в стене захламленного чулана за отставшей штукатуркой Мати прятал сигареты. Он входит в чулан и видит стоящего на цыпочках Сморчка — толстых подметок оказалось недостаточно, — который прильнул к дырочке. Под душем мылся шестой класс, полудевочки-полуженщины с едва намечавшимися, болезненно набухавшими грудями. Мати замирает в дверях. Сморчок оборачивается, лицо его наливается кровью. Сперва он что-то бессвязно бормочет, но вот уже орет: «Какое свинство! Это ты ее провертел! А теперь явился подглядывать! Я как раз караулил, когда…» Он хватает Мати за плечо, тащит его выстаивать под большие часы и бежит сообщить девочкам, за каким занятием застукали парня.
Так это началось. И через год Мати вполне освоил заикание. Позже он с ним упорно боролся. От заикания избавиться очень просто, прочел он многообещающие заверения в какой-то старой брошюрке, где шла речь о всевозможных нервных заболеваниях. Избавиться будто бы можно при помощи самовнушения.
Возможно, все это правильно. Да что толку? Правда, Мати понимает, что в легком заикании нет ничего зазорного; в самом деле, ну что тут такого? Только это не помогает… Я не боюсь, я ничуть не стесняюсь, можно внушать себе и верить в это, но, когда кровь кидается в лицо, лоб покрывается мучительным потом, руки дрожат, ладони мокрые, от самовнушения проку мало! Воля и разум бессильны, заикание словно приходит откуда-то извне.
Что делать, если в глотке засел скорпион, изготовленное к удару жало поднято вверх и вот-вот вопьется в гортань. По большей части с уст Мати слетало разве что подлежащее и сказуемое; машинка, сжимавшая горло, пропускала подлежащее и сказуемое, иногда дополнение, но если он хотел, осмеливался хотеть большего, колесо сбрасывало приводной ремень, и в горле вскипал пенный водопад. Наше тело послушно нашей воле. Послушно? Большое спасибо! А у Мати нет.