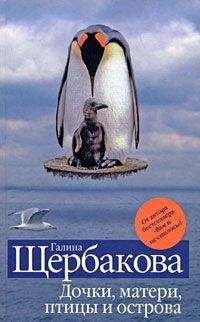Ознакомительная версия.
Галина Щербакова
Роль писателя Пьецуха в жизни продавщицы колбасы Вали Веретенниковой
Я любила так. Жарила сковородку семечек, обматывалась байковым одеялом, сладеньким, мягоньким, коленками вытянутым… Пальцами ног под собой его прихватывала, шевелилась в нем, как косточки велят, и… – ни в сказке сказать! Оно и сейчас живое – одеяльце, конечно, скорее – полуживое. На пенсии. Я на нем глажу, когда не хочу заваживаться с гладильной доской. Не люблю эту заразу для энтузиастов глажения. А одеяльце лежит у меня под утюгом, все в рыжих треугольниках бывшего огня, и я думаю: какое было время! Семечки, одеяло и какой-нибудь роман. Я всю советскую литературу перечитала от корки до корки и обратно. Мне даже то нравилось, что никому не нравилось. Я придурошного Данко любила не на уроках литературы, для светлой радости учительницы, а на самом деле действовал он на меня до слез этим своим вырыванием сердца. Все читала. Подряд. Я Драйзера считала ниже Бондарева. И удивлялась себе: ну, думаю, патриотка! Сижу, обплююсь вся, света белого не вижу. Муж, сын – а пошли вы! Как теперь говорят – кайф. Сейчас не соображу, когда это отрезалось? Когда я отселила одеяльце под утюжок?
Был же первый раз, когда распятую коленками баечку из изголовья я перенесла в кухню на подоконник? Я вообще люблю размышлять над временем поступков. Какое у них «до» и какое «после». Жила же душа в душу с одеяльцем, а потом взяла (как? когда?) и выбросила за борт в набежавшую волну. Несла его в изгнание как? Как родное или как чужое? Я ж итог этим подводила себе прежней, потому что после этого, чтобы я нажарила семечек и клубочком свернулась – да никогда! Сижу на диване с прямой спиной, а чтоб коленям вольнее было – брошу на них плед. Шерстяной, ирландский, шелком окантованный. Брошу и слежу, чтоб, не дай бог, не коснулся пола. Ну, коснулся бы… Делов! У меня три таких пледа. Но я сама себе это устраиваю – строгость в поведении ног, спины и колен. И не читаю. В руки не беру.
Иногда разламываю апельсин. Почему я всегда себя вижу со стороны в этот момент разламывания? Просто из себя выпрыгиваю, становлюсь напротив и смотрю. Сидит пожилая уже девушка, башня из волос под торшером вся переливается оттенками колестона, и каждый раз – каждый! – я вспоминаю покойницу маму, которая в такую же точно башню закладывала для крепости капроновый чулок. У меня же все на шпилечках, отсюда – хрупкость, а значит, и большая красота. Красота вообще вещь нежизнеспособная. Хочешь выглядеть красиво, придай себе слабость, чтоб все было – хоть пальчиком сломать. Такое у меня понятие о красоте, и тут меня не сбить. Я просто захожусь от смеха, когда слышу теперь на каждом шагу, что красота спасет мир. Ну, скажете, это от ума?
Ненавижу апельсины именно потому, что сурово вижу себя со стороны. Пожилая девушка с пустотелой башней на голове поедает апельсины, прикрыв колени ирландским пледом, в присутствии телевизора и семьи, освещенная голубым светом гжельского подфарника. То есть бра. Но подфарник в таком перечислении лучше, потому что он намекает на наличие у пожилой девушки с пустотелой башней на голове, поедающей апельсины и имеющей плед, мужа, сына, телевизор и гжель, еще и машины, не попадавшей в объектив глаза, потому что она стоит в трех километрах от дома. Будь они прокляты, эти условия существования хоть машин, хоть людей.
Естественно, возникает вопрос, с чего это человек перестал делать любимое дело – грызть семечки и читать романы – и превратился в сюжет для картины? Я с детства неплохо рисовала и любила картинки с историей, чтоб было о чем помечтать. Вот, мол, Меншиков с выводком. В деревне Березово. Носатый, небритый мужчина. Кулачок на коленку положил, силу сдерживает. Жалко дядьку, а барышень его почему-то нет. Жалко силу, которую скрутили и бросили. Ну, и так далее. Картину, что я вижу про себя, можно было бы точно обозвать и так: «Пожилая девушка с апельсином, пледом и подфарником (бра! бра!), после того как она навсегда перестала читать книги».
Как экскурсовод по собственной картине я бы так сказала: «Она – пожилая девушка – однажды поняла всю лажу литературы. Она осознала торжество дури в ней и возмутилась. Как же это можно – дурью и лажей – морочить человеку голову. Это ж кем его считать? Козлом или примусом?» Короче, не читаю. Считается, что смотрю телевизор. Нет. Я просто пялюсь. Я сижу и думаю мелкие, мелкие мысли. Например. Надо выпить молока. Беру пакет, и меня заносит на ту фабрику, где это молоко разливают. И я просто вижу, как она там стоит, немытая баба у разливальной машины, и как она грязными пальцами все там трогает. А может, это он – мужик, – тогда еще хуже. Потому что, определенно, он только что пощупал свою ширинку во всю высоту и теми же пальцами взялся за молочный краник. Я это давно заметила за нашими мужиками: как они заполошенно хватаются ни с того ни с сего за причинное место, проверяют – там ли. И глаз у них такой делается испуганный, будто нет там ничего, исчезло и надо срочно бежать, искать и водворять бегуна на место. Ну, одним словом, – будешь ли после этого пить молоко из того краника? Кончается всегда одним – я надуваюсь кипяченой воды. Пью, а сама представляю, как на водосборниках наши лихие советские труженики из желания насолить сразу всем – власти, партии и жене – писают в хлорированную воду перед самым спуском в водопровод. Нате, мол, вам! Упейтесь!
Я тогда чувствую, как закипает моя кровь, и мне даже хочется обратиться в газету с криком: Правительство! Что вы себе думаете? Партия! Где ваши понятия?
Но не такая я дура, чтоб на самом деле открывать рот. Я в голове это все прокручу, пойму, что в нашей стране все бесполезно – кричи не кричи, – и иду спать.
В результате такой моей оторванной от искусства и литературы жизни я не заметила, что есть – оказывается! – такой писатель Пьецух. Странная фамилия, не поймешь национальность.
Я это не люблю. Не потому, что я имею что-то против евреев – это сразу приходит на ум, – а потому, что я не люблю, когда мне что-то непонятно. Это у меня с детства. Непонятно – сразу не люблю. Будто внутри что-то рождается клубочком таким и вверх, вверх к горлу. И начинается такое распирание, что может возникнуть мысль, будто у меня зоб. Ничего подобного. Это я своим телом и духом что-то не понимаю и ненавижу. Я тогда платочком горловым прикрываюсь, если не хочу, чтоб видели, как я не понимаю эту жизнь. А на работе я хочу, чтоб видели и знали. Я к очереди подхожу в зобе. Как Язов при пистолете. Нате вам, сволочи. Между прочим, этим держусь, а то бы давно сосуды полетели в тартарары. У каждого своя самозащита. Я хорошо знаю одну женщину-скунса. Но это зигзаг мысли. Это, чтоб не сказать главное… Значит, Пьецух.
Интересно, кто он? Может, мордва? У нас этой национальной мелочовки… Кто не перекрасился в русских, у того фамилия может быть похожа черт-те на что, с нашей точки зрения. Но я считаю – имеют право. Называйся кем хочешь. Это ж ты… Ты и есть самый для себя главный. Аксиома, между прочим.
Как у меня все трясется, а зоб больше головы. Потому что она мне так сказала: «Откуда у вас, Валя, такая сумма на руках? Вы что – писатель? Может, вы Пьецух?» Так она мне в лицо, эта сволочь, выдала небрежно, как сдачу. У них в райкоме, где она до магазина работала вторым секретарем, накоплен большой опыт по сбиванию людей с ног. Это у них профессиональное свойство. Как у нас пальчик на весах. Тут ведь ничего не поделаешь. Палец ложится под бумажечку сам. Мне эти двадцать граммов, думаете, нужны? Да боже мой! Но… Автоматический жест. Так и у райкомовцев. Сразу надо поставить человека ниже. Не ниже себя, это я простила бы, а ниже самого человека. Я когда это поняла, мне слово открылось – унижение. Я вообще, надо сказать, умная. Мне бы другую жизнь. Чтоб ум не пачкался в каждодневной грязи, а выполнял свое назначение. Но мы же вынесли ум за скобки жизни. За ненадобностью. И все. И точка. И если меня, умную, это не перелопатило, то исключительно оттого, что я физически по природе своей сильная. Я очень здоровый человек – тьфу, тьфу, тьфу! Но тут – «вы, может быть, писатель Пьецух?» – у меня такой получился прилив к голове, что – не поверите! – мир стал темно-синим. Именно темно-синим, как довоенный шевиот на брюки.
Я тогда в себя упала. На собственное дно. Оказывается, оно есть. Такая пропасть внутри с темно-синими стенами, летишь мимо них, аж перепонки закладывает. И бац – камбалой в нее.
Дело было так. Я накануне сняла всю наличность с книжки, и мне ее выдали крупными бумажками, чему я, идиотка, обрадовалась. Мне на следующий день деньги эти – десять тысяч – надо было передать из рук в руки. Я их в полиэтиленовый пакет сложила, аккуратно так подвернула с боков, ну, думаю, слава богу, сделала дело, завтра отдам, и кончится эта дурная история, от которой организм мой уже стал уставать. Не девочка ведь. И села я, значит, перед телевизором и тарелку на колени поставила с этими, как они? Вот, видите, слова стала забывать – с этими чебуреками. Я обрадовалась, что мне сильно есть хочется и не представляется, как этот чебурек сделан. Хорошо, думаю, значит, я на верном пути. И только я откусила чебурек, а он как брызнет! Всю меня, паразит, соком обдал, в лифчик затекло. Жир горячий, я туда дуть, а в телевизоре как раз про обмен денег.
Ознакомительная версия.