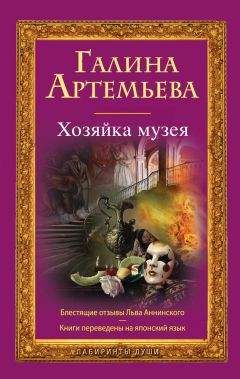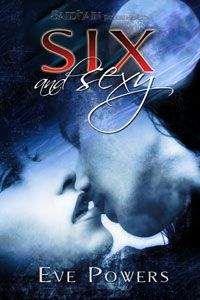Галина Артемьева
Хозяйка музея
Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы…
…У брега насажу лесок уединенный,
И липу свежую, и тополь осребренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой…
Е.А. Баратынский. «Родина» (1821).
Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит…
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске…
А.А. Ахматова. «Август 1940».
Музей народного бессмертия
Ах какая сирень повсюду! Какая зелень на деревьях юная! А воздух! Буквально – не надышишься! И отовсюду запахи и звуки детства: весенняя земля благоухает, река плещется, пароходик пыхтит, временами подавая уморительные сигналы.
Елена Михайловна уже отошла от вокзала на изрядное расстояние, когда принялась наслаждаться бурной майской весной маленького неведомого дотоле русского городка. На вокзале об удовольствиях не могло быть и речи: противоестественная для такого местечка толчея и суетня привели столичную жительницу в ужас, ибо сразу подскочили мысли о воровстве, грабеже и разбое. Разумеется, собираясь в дорогу, она приняла положенные меры предосторожности – паспорт и командировочные деньги таились в трусах, в специально пришитом на такой случай карманчике. Елена Михайловна весь путь от Москвы до места назначения животом чувствовала благодатное тепло жизненно важного документа и денежных знаков. Однако в сумке тоже имелись ценности, которые к телу не прикуешь: мобильный телефон, например, или футляр с очками для чтения, без них она никуда, ничего не прочтет, не разглядит. Пропадут очки – пропала и командировка. Лупа еще мощная при ней, блокнот с адресами и пометками. Вырвут сумочку из рук, и вся дорога зря.
Раньше жулики сочетали свое нечистое искусство с своеобразным благородством и сочувствием: ценности заберут, а ненужное подкинут обокраденной жертве, а то и непосредственно к отделению милиции доставят. Сейчас родная земля наполнилась чужаками без роду, без племени, хлынувшими разбойничать на бесхозных бескрайних просторах. Все для них тут не свое, ненавистное, никого им не жаль, за десятку зарезать готовы, и душа их не дрогнет, и покаяния не дождешься, потому что мы для них всего лишь добыча бессловесная на охоте, как белка или заяц: покричит-покричит перед смертью, затихнет – и можно шкуру обдирать, радуясь удаче.
На вокзальной площади происходило светопреставление. Смугломордые чужаки несли свою тарабарщину, вопили зазывно исконно-посконные российские цыганки с цыганятами, обещая сказать судьбу и требуя подать деткам на кусочек сухаря. И над всем этим нечистым разноцветьем – куполом высился незатейливый, но доходчивый русский мат, до отвращения густо пропитанный похмельными испарениями. Жизнь кишела червями, как в выгребной яме. Казалось, спасу не будет от этой чумы.
Без всякой надежды продралась Елена Михайловна сквозь привокзальное похабство, держа курс на виднеющиеся издалека кресты храма. И – надо же! Не прошло и десяти минут, как станционные впечатления оказались напрочь забытыми, и нахлынула почти навеки почившая, почти утраченная радость бытия, охватила сумасшедшая вера в будущее счастье. Будто ничего еще и не начиналось. Будто все еще впереди.
Ах! Только ради этого ощущения, ради живой воды чувств стоило проделать такую дорогу.
Неведомо сколько простояла Елена Михайловна на мосточке у реки, надышалась ее русалочьим манящим запахом и нехотя опомнилась. Ее ждут. Возможно, уже обеспокоены отсутствием. Она достала из сумочки плотный листок, на котором красивым уверенным почерком обозначался адрес и схема передвижения к месту назначения. Музей народного бессмертия. Название какое-то немыслимое, хотя, поразмышляв, не придерешься – имя, так сказать, на все времена. И в пир, и в мир, и в добрые люди.
И верно – музей с этим самым названием продержался с момента основания в 1927 году (к десятилетию навеки нерушимой советской власти) последующие восемьдесят лет, пережив:
– агонию коллективизации;
– массовое истребление народа под видом врагов народа;
– тяготы Великой Отечественной войны с недолговременным даже занятием города вражескими полчищами;
– послевоенную разруху;
– новую волну истребления чудом оставшегося в живых народа под видом врагов народа;
– разоблачение свиноподобным лидером культа личности сыгравшего в ящик грозного тирана;
– нашествие кукурузы на среднерусские поля;
– «чувство глубокого удовлетворения» бровастого генсека, сместившего волюнтаристски беснующегося свиноподобного;
– парочку безвременно почивших, слишком поздно дорвавшихся до власти партийных старателей, не успевших поцарствовать всласть;
– ненароком сокрушившего несокрушимую и величавую державу ставропольца, по недомыслию и мягкотелости затеявшему самому непонятно что;
– лихого президента-алконоида, сварганившего беспримерный в многотрудной истории государства грабеж и распад.
Все это время музей жил и принимал своих посетителей, учет которых велся аккуратно и неукоснительно. Располагался очаг культуры в древней помещичьей усадьбе и давно по идее должен был бы обветшать и рухнуть, учитывая вложения в провинциальные нужды не первой необходимости, но дирекция билась и добивалась – то капремонта, то обустройства канализации, то водопровода, то отопления, то покраски фасада.
Только вот вышла странная неувязка. Теперь, когда Россия вроде бы вновь приосанилась и даже впервые за много десятилетий обрела власть с человеческим лицом, Музею народного бессмертия стала грозить погибель. Старинный особняк с флигелями, расположившийся на живописном холме, с высоты которого открывался дивный вид на реку, заливные луга и окружающие их леса, действовал болезненно-возбуждающе на почти уже пресытившееся всесторонними земными благами местное важное начальство. И решило оно по справедливости упразднить эту никому не нужную богадельню с неадекватным ситуации названием, а вместо этого организовать там подобающее помещение для властных структур – резиденцию губернатора, например, или что-нибудь наподобие того, подлинно демократичное и актуально нужное позарез.
В связи с этим начальство издало наказ, указ или приказ, или даже все вместе о неминуемом освобождении здания городской усадьбы от музея в рекордно стремительные сроки.
Музей испустил прощальный крик о помощи. Что-то вроде лебединой песни. «Ты прости меня, любимая, за людское зло». Типа – нам не повезло, но хоть приезжайте, перья с трупа оберите, авось пригодятся.
Сколько этих просьб-воплей поступает в министерства разных профилей, никому из простых смертных неведомо. Как поступают, так и пропадают с концами. Но тут, как иногда почему-то бывает, вмешался случай: взволнованное письмо попалось на глаза новому начальнику, еще не разучившемуся самостоятельно читать.
Загрохотал на разные голоса скандал, приведший к тому, что алчные, но трусливые местные шакалы на время отступили, затаились, музей восстановили в своих правах, а Елена Михайловна, как опытнейший и достойнейший эксперт, послана была в командировку для установления реальной ценности выставляемых экспонатов, слезные мольбы о спасении которых содержались в письме.
Она каким-то сверхъестественным нюхом умела безошибочно устанавливать подлинность и авторство исторических документов и произведений искусства. В такой среде вскормлена-вспоена, что иначе и быть не могло: все известные ей фамильные предки, близкие и отдаленные родственники и свойственники обретались в мире прекрасного и другой естественной для себя среды не представляли. Редкостное врожденное чутье Елены Михайловны можно без преувеличений считать результатом генетической селекции многих предшествующих поколений ее семьи. Она по запаху определяла состав красок на холстах, созданных за несколько столетий до появления ее самой на свет Божий. Приложив ладони к старинному манускрипту, она ощущала или тепло его подлинности, или мертвяческий холод подделки. Дорогостоящие новомодные приборы и сложные анализы потом только подтверждали то, что уверенно провозглашала Елена Михайловна, едва взглянув на исследуемый объект. Потому-то сейчас слово было за ней.
Музейное здание открылось перед ней внезапно. В таком великолепно-щемящем ракурсе, что слезы подступили и сердце нерасчетливо-бешено заколотилось в груди, как в пору первой забытой любви. Словно и не проскрежетало над родиной убийственное столетие, словно не подверглась она поруганию, насилию и разграблению. Все: и бело-лиловые гроздья махровой сирени, и прозрачно-розовокожие березы, и новая, только развернувшаяся, листва векового дуба, и просторный луг, и широкая река с песчаным берегом, и радующий гармонией очертаний дом с двумя флигелями – все говорило о незыблемости и вечном покое.