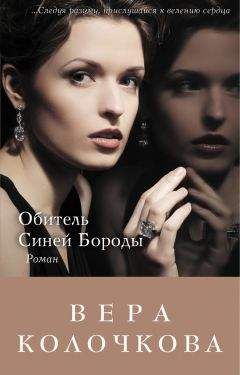Кекова Светлана Васильевна родилась на Сахалине. По образованию филолог. Автор нескольких поэтических книг. Стихи Светланы Кековой переводились на многие европейские языки. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Саратове.
* *
*
Случайно в шесть утра проснуться в день базарный
и вспомнить о цветах, плодах и овощах...
Но свет войдет в окно, как ангел лучезарный,
оставит легкий след на мыслях и вещах.
У заводи сидит рыбак с тончайшей леской,
он ждет, как ждет больной, движения воды,
а бабочка лежит за белой занавеской,
как мертвая жена у Синей Бороды.
Хозяин за окном окучивает грядки
под еле слышный звон лиловых бубенцов,
а на сырой земле в священном беспорядке
лежат, закрыв глаза, младенцы огурцов.
* *
*
А. Д.
Любовь не слаще меда и вина.
Но речь твоя уже растворена
в каком-нибудь Жасмине Полякове
или в простом Листе Лесовикове,
в крови и лимфе их течет она.
Вот куст сирени — бабочек альков,
еда для пчел, приют для мотыльков,
и если мы листву не потревожим,
то куст сирени будет брачным ложем
для тех, кто отлюбил — и был таков.
Нам нужно не забыть между делами:
мы тоже бабочки с прекрасными крылами,
за нами вслед встают — неясные пока —
поэты — шелкопряды языка...
* *
*
Ю. К.
Птицы, словно поэты-эстрадники,
нам о чем-то кричат с высоты.
Золотые шары в палисаднике
ярче, чем остальные цветы.
Остается от камешка плоского
дробный след на осенней воде.
Говорили про Сашу Сопровского
мы с тобою подробно. Но где
это было — не помню, не ведаю…
Был костер поминальный зажжен
под большим Орионом, под Вегою,
под искрящимся звездным ковшом.
Робкой девочкой, мальчиком мнительным
мы, наверное, были тогда —
и потоком лилась ослепительным
нам в ладони живая вода.
Спал покрытый олифой ли, лаком ли
крест, растущий из черной земли.
Мы молчали. Молчали и плакали,
а над нами созвездия шли.
Три детских считалки
1
Вышел месяц из тумана,
раз-два-три-четыре-пять,
вынул ножик из кармана
и пошел меня искать.
Но под детскую считалку
он нашел пиджак дрянной,
спицы, сломанную прялку,
календарь перекидной,
кисти, масляную краску,
прохудившуюся шаль,
инвалидную коляску
и отцовскую медаль.
Месяц, стой, скажи на милость, —
в дряни, рвани, в тишине
неужели сохранилась
чья-то память обо мне?
Где, скажи, первопричина
взрослых бед и детских слез?
Что же ножик перочинный
надо мною ты занес?
Мне, конечно, не ответил
детских страхов поводырь,
но прозрачен стал и светел,
словно жизни прах и пыль.
2
Аты-баты, шли солдаты, как лихие времена,
я привыкла путать даты, числа, сроки, имена.
Расправляет аксельбанты цезарь зелени — июль,
в травах блещут бриллианты от лихого свиста пуль.
Время выпито из плошки, жизнь сквозь пальцы утекла.
Ворон топчет на дорожке крошки битого стекла.
Прогоняет тетя Валя эту птицу со двора
под невнятный шепот Даля и солдатский крик “ура!”.
Дядя Вася точит лясы, отдает солдатам честь,
копит на зиму запасы — что ему Благая Весть?
С самогонным аппаратом, непонятным, как квазар,
говорит он: “Шли солдаты, аты-баты, на базар”...
3
Мы вязали полынные веники
и полы аккуратно мели,
а какие-то эники-беники
копошились в словесной пыли.
Если в старости к детству прислушаться,
то на жизнь потеряешь права:
всею тяжестью время обрушится
в непонятные эти слова.
Что ж, слова — не монеты, не ценники,
а хранилище вздохов и слез.
Что за “эники” ели вареники,
если “беники” делали “клец”?
Выручала волшебная палочка
тех, кому невозможно помочь,
и дурацкая эта считалочка
про матроса, ушедшего в ночь.
* *
*
Есть два дерева — лавр и секвойя,
чья листва зелена и суха.
Есть три времени — время покоя,
время памяти, время греха.
Ветви ивы висят, словно плети,
лед стеклянным звенит бубенцом.
Существуют три встречи на свете —
с мужем, сыном и блудным отцом.
А четвертая смертной стрелою
в камень бьет, на котором стоим,
и уводит от Дафниса Хлою,
и сшивает стальною иглою
душу старости с детством твоим.
* *
*
День проходит без смысла и толка,
но летят пауки в облаках
с небольшими запасами шелка
в небогатых заплечных мешках.
Среди прочих вещей непонятных
возникает такой артефакт:
платье осени в шелковых пятнах
небольших серебристых заплат.
И, запутавшись в гуще событий,
царь природы в железном венце
вдруг почувствует шелковых нитей
тонкий холод на трезвом лице.
Вечность невод раскинула тайный...
В паутине ее мы могли б
притвориться толпою трамвайной
или стаей бессмысленных рыб
иль, насытившись смертью мгновенной,
сняв сосновый пиджак мертвеца,
вдруг проснуться с улыбкой блаженной,
паутину стирая с лица.
Соловьев Сергей Владимирович родился в 1959 году в Киеве. Поэт, прозаик, художник. Автор книг: “Пир”, “Междуречье”, “Крымский диван”, романа “Аморт”. Лауреат премии Бунина. Живет в России, Германии, Индии. В “Новом мире” публиковался его рассказ “Сухая балка” (2007, № 3) и стихи “Шаль” (2007, № 8).
Журнальный вариант.
...Ведь и Атман бессилен перед природой счастья.
Шветашватара-упанишада.
Индия снилась, как девочка, как Пушкин.
Виктор Соснора.
Баньян — дерево, род фикуса, семейство тутовых. Высота до тридцати метров, площадь — до пяти тысяч квадратных, имитирует собой целую рощу. Отношения с почвой призрачные, эпифитные. Питается сверху — пыль, осадки, — а также другими растениями. Ветви растут по неизъяснимым траекториям: вверх, вниз, в стороны, возвращаясь, пронзая ствол, выпрастываясь, уходя в землю... Собственно ствола у этого древесного вавилона нет. Или, говоря теологически, он везде и нигде. Живет веками. Содержание второстепенно, — писали индусы, его ровесники, — идеи сочтены, сюжеты известны, произведение остается открытым, обрываясь там, где исчерпывается его стиль, форма. В Индии — священное, эмблематичное дерево. Дает широкую тень.
Раджаджи
Помнишь, спим, снится, глаза открыты, тихая флейта поет, уже не в раю, но еще не в изгнаньи, будто дверь подрагивает между ними, то откроется, то затворится, и ни души в обе стороны, смертная даль, эта сладкая горечь, тахикардия счастья. Там, наверно, за жизнью, где души, как пух тополиный, летят, оттуда этой мелодией, как сквознячком, тянет. Помнишь, в псалмах Соломона: но и они проходят; и мы летим...