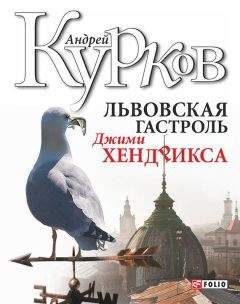Шерман Алекси
Потому что мой отец всегда говорил: я — единственный индеец, который сам видел, как Джими Хендрикс играл в Вудстоке Звездно-полосатый флаг
Рассказ
Вступление Светланы Силаковой
Утром 18 августа 1969 года, на четвертые сутки музыкального фестиваля в Вудстоке, начал свое выступление хедлайнер — Джими Хендрикс. К тому времени на фестивале остались лишь самые стойкие из полумиллиона зрителей — те, кого не прогнал проливной дождь, не пугала непролазная грязь, не замучил голод. Фотограф Генри Дилц вспоминал, что утром 18-го площадка фестиваля представляла собой «просто мокрое грязное поле с кучами мокрых спальных мешков. Оно в некотором роде напомнило мне фотографии Мэтью Брейди с Гражданской войны: поле, усеянное трупами солдат и трупами лошадей».
Но те, кто дождался Хендрикса, ничуть не прогадали. Его выступление в Вудстоке вошло в историю музыки, а одна композиция — еще и в историю общественно-политической жизни. Это инструментальная версия гимна США — песни «Звездно-полосатый флаг».
«Это был самый захватывающий момент, — вспоминал Дилц. — Просто солирующая гитара, звук пронзительный-пронзительный и чистый-чистый. К тому времени на холме осталась лишь кучка людей. Звук из гигантских колонок отражается от склонов, и еще тишина эта — потусторонняя, бессловесная, предрассветная, мглистая. Аккорды отражаются снова и снова».
Кинорежиссер Майкл Уэдли так описывал реакцию публики на гимн: «Я увидел, как люди в экстазе дергают себя за волосы, ошеломленные, потрясенные. Очень многие, и я тоже, затаили дыхание». В первых рядах у сцены стоял безымянный герой рассказа, который вы прочтете ниже. Стоял и чувствовал, что Хендрикс играет про него и лично для него.
Чем же эта интерпретация гимна так потрясла американцев? Хендрикс без единого слова, просто сыграв на гитаре, превратил государственный гимн в обличение вьетнамской войны. Во всяком случае, так восприняли эту композицию современники: им отчетливо слышалось, что инструмент воспроизводит гул вертолетов, разрывы бомб и крики отчаяния.
Однако нашлись и такие, которые сочли, что Хендрикс проявил неуважение к гимну.
Сам музыкант, когда его в телеинтервью спросили об этой полемике, сказал: «Я — американец, вот я и сыграл гимн. В школе я часто его пел. В школе нас заставляли его петь, так что для меня это был возврат в прошлое».
Телеведущий Дик Кейветт не преминул заметить, обращаясь к телезрителям: «Этот человек служил в 101-й Воздушно-десантной [в армии США, в 1961—1962-м. — Ред.], помните об этом, собираясь слать свои злобные письма…». А затем пояснил Хендриксу: стоит кому-то исполнить «неортодоксальную» версию гимна, как «немедленно, гарантированно приходит энное количество ругательных писем».
Хендрикс возразил: «Я не думал, что версия неортодоксальная. Я думал, что она красивая».
Известный американский рок-критик Грейл Маркус утверждает, что «Звездно-полосатый флаг» в версии Хендрикса — «многоплановая вещь, в ней сплелись отвращение и восхищение, отчужденность и сопричастность. Ее никак нельзя сводить просто к антивоенному протесту. Он в ней, разумеется, есть. Но одновременно Хендрикс говорит: „Я тоже гражданин нашей страны“».
Наверно, именно это уловил, слушая «Звездно-полосатый флаг» в Вудстоке, холодным утром на грязном поле, герой рассказа.
* * *
В шестидесятых мой отец был идеальным хиппи, поскольку хиппи старательно косили под индейцев. И, конечно же, на этом фоне всем было невдомек, что имидж отца отражает его индивидуальную гражданскую позицию.
Но есть вещественные доказательства: фотография отца на демонстрации в Спокане, штат Вашингтон, во времена вьетнамской войны. Снимок привлек внимание информагентств и был перепечатан газетами по всей Америке. Вообще-то он даже попал на обложку «Тайма».
На фото мой отец в клешах и цветастой рубахе, с заплетенными в косы волосами, с размалеванным лицом (вроде как боевая раскраска индейца, а на самом деле — красные пацифики[1]), потрясает в воздухе винтовкой; в следующую секунду он начнет дубасить рядового Национальной гвардии, которого уже повалили на землю. Над левым плечом отца смутно виднеется плакат в руках другого демонстранта. На плакате надпись: «Занимайтесь любовью, а не войной».
Фотограф удостоился Пулитцеровской премии, а редакторы по всей стране неплохо оттянулись, сочиняя подписи и заголовки. Я видел почти все — у отца была целая коллекция газетных вырезок. Моя любимая — подпись из «Сиэтл таймс»: «Демонстрант объявил войну за мир». В других заголовках редакторы обыгрывали тот факт, что мой отец — коренной американец: «Пацифист на тропе войны», «Трубка мира разожгла пожар индейского восстания».
Как бы то ни было, отца арестовали и обвинили в покушении на убийство. Потом обвинение переквалифицировали на более мягкое: «нападение с применением смертоносного оружия». Судебный процесс был громкий, и отца решили наказать для острастки другим. Быстренько признали виновным, вынесли приговор. Отец отсидел два года в исправительной тюрьме «Уолла-Уолла». Правда, приговор фактически спас его от мобилизации, но в тюремных стенах шла другая война.
— Там у всех были свои банды: у индейцев, у белых, черных, мексиканцев, — рассказал он мне однажды. — И каждый день кого-нибудь убивали. До нас доходила весть, что кого-то пришили, например, в душевой, и по цепочке передавалось одно слово. Всего одно. Цвет его кожи. Красный, белый, черный или коричневый. Мы меняли цифру на наших мысленных табло и ждали следующих новостей.
Все это мой отец перетерпел, уберегся от крупных неприятностей, каким-то чудом не был опущен, а на свободу вышел в удачный момент: успел добраться автостопом до Вудстока и услышать, как Джими Хендрикс играет «Звездно-полосатый флаг».
— И там я четко почувствовал: Джими знает, что я здесь, на концерте, — рассказывал отец. — Знает, хотя в толпе меня не видать. Вот такое у меня было чувство после всей хрени последних лет. Да, Джими не случайно сыграл «Флаг». В нем все, что я пережил, точность стопроцентная.
Прошло двадцать лет. Отец крутил кассету Хендрикса снова и снова, пока не стер до дыр. Снова и снова наш дом трещал по швам, распираемый багровыми вспышками ракет и свистом падающих бомб. Придвинув к себе сумку-холодильник с пивом, приникнув к колонкам стереосистемы, отец то плакал, то смеялся сквозь слезы, потом подзывал меня и крепко-крепко обнимал, укутывая, словно одеялом, смесью перегара и пота.
Джими Хендрикс стал для моего отца собутыльником. Джими Хендрикс дожидался, пока отец, где-то пропьянствовав всю ночь, вернется домой. Опишу этот ритуал:
1. Я всю ночь не смыкал глаз: лежал и прислушивался, ждал, пока зачихает вдали отцовский пикап.
2. Услышав, как отцовский пикап подъезжает к дому, я бежал наверх и ставил кассету Джими.
3. В тот самый миг, когда отец переступал порог, Джими наклонял гитару, извлекая первую ноту «Звездно-полосатого флага».
4. Отец всхлипывал, пробовал подпевать Джими, а затем отрубался, уронив голову на кухонный стол.
5. Я засыпал под столом, почти уткнувшись носом в папины ноги.
6. Мы вместе смотрели сны, пока не вставало солнце.
На следующий день отцу становилось так совестно, что в качестве извинений он принимался рассказывать мне всякие разности.
— С твоей мамой я познакомился на вечеринке в Спокане, — рассказал он мне однажды. — Кроме нас двоих, на той вечеринке не было ни единого индейца. А может, и во всем городе не было. Я подумал: какая же она красавица. Я подумал: если такая женщина поманит, бизоны подойдут к ней сами и добровольно расстанутся с жизнью. Ей не понадобится тратить силы на охоту. А когда мы ходили гулять, за нами каждый раз увязывались птицы. И ладно бы птицы: за нами увязывалось перекати-поле.
Чем больше ругались между собой мои родители, тем красивее вспоминал отец о моей матери. Почему так получалось, даже не знаю. А после развода отец объявил маму красавицей из красавиц, каких еще свет не видывал.
— Твой отец всегда был наполовину псих, — часто говорила мне мама. — А другая половина оставалась нормальной, только пока он не забывал пить таблетки.
Но мама тоже его любила, любила яростно, отчего он в итоге и сбежал. Они ссорились с тем изящным остервенением, какого не бывает без любви. И все-таки любили друг друга: страстно, непредсказуемо, эгоистично. Выпьют лишнего на какой-нибудь вечеринке и, не прощаясь, ускользают: спешат домой, чтобы прыгнуть в койку.
— Я тебе кое-что расскажу, только отцу не говори, — сказала мне мать. — Он много раз отрубался прямо на мне. Наверно, раз сто. В самом разгаре этого самого говорил: «Я тебя люблю», и глаза у него закатывались, и в башке гас свет. Хорошие были времена. Странно звучит, сама понимаю, но все-таки…