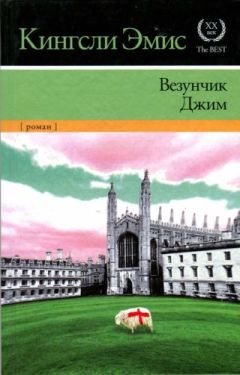Посвящается Филиппу Ларкину
Ох, этот Джим, везунчик Джим —
Зачем он создан был таким?
Старинная песня
— Таким образом, они допустили грубейший промах; право слово, грубейший, — продолжал Профессор исторических наук. Воспоминания захлестнули его, и он широко улыбнулся. — После изрядного перерыва мы репетировали отрывок из Доуленда[1] для блок-флейты и клавишных. Я, разумеется, играл на блок-флейте, юный Джонс… — тут Профессор замолк. Шаг он не сбавил, однако весь напрягся. Казалось, совершенно другой человек, некий самозванец, которому не дано подделать профессорский голос, вселился в его тело. Через несколько секунд Профессор как ни в чем не бывало продолжал: — Джонс играл на фортепьяно. Разносторонний юноша. Ведь вообще-то его инструмент — гобой. Ну да речь не о том. Репортер, вероятно, чего-то недопонял, а может, недослышал, кто его знает. И что мы в итоге имеем? А имеем мы огромный заголовок в «Пост». Доуленд — слава Богу, хоть эту фамилию не исковеркали. Маэстро Уэлч и Джонс — допустим. А что, вы думаете, было дальше написано?
Диксон помотал головой и без колебаний ответил:
— Даже представить не могу, Профессор.
Ни одного профессора в Великобритании, подумай Диксон, обращение «Профессор» не приводит в такой трепет.
— «Флейта и фортепьяно».
— Что-что?
— «Флейта и фортепьяно» вместо «блок-флейта и фортепьяно». — Уэлч хохотнул. — Блок-флейта, представительница семейства продольных флейт, не похожа на флейту, хотя, конечно, является ее прародительницей. Начать с того, что на блок-флейте играют, если употреблять профессиональную терминологию, а bec, то есть дуют в мундштук особой формы, так же как при игре на гобое или кларнете. А современная флейта предполагает игру типа traverso, иными словами, вы дуете в дырочку, а не в…
Уэлч вроде успокоился, даже замедлил шаг. Диксон облегченно вздохнул. Своего Профессора он обнаружил в библиотеке колледжа, как ни странно, перед стеллажом «Новые поступления». Теперь они с Профессором наискось пересекали газончик. Путь их лежал к главному корпусу. С виду (и не только) они походили на комический дуэт: Уэлч высокий, тощий, с прямыми жидкими седеющими волосами, Диксон — круглолицый блондин, невысокий, на редкость широкий в плечах — особенность эта никогда не оправдывалась ни выдающейся физической силой, ни наличием специальных навыков. Студенты, верно, думают, что у них беседа о высоких материях, судя по глубокомысленному виду и неторопливому шагу, прикидывал Диксон, и более чем очевидный комический контраст таким соображениям не помеха. Они с Уэлчем вполне могли вести речь об истории, причем в том именно ключе, в каком ведут речь об истории во внутренних двориках Оксфорда и Кембриджа. Момент был как раз подходящий, Диксон почти жалел, что студенты далеки от истины. За эту мысль Диксон цеплялся в ожидании, пока у Профессора пройдет эмоциональный спад. Интуиция его не подвела: вскоре Уэлч заговорил на повышенных тонах, временами прерывая свою речь короткими смешками.
— Перед антрактом они опростоволосились, да как! Юный альтист имел несчастье перевернуть сразу две страницы! Слов нет, что тут началось!..
А вот Диксона слова как раз были. Он сделал над собой небольшое усилие, и его лицо приняло заботливое выражение. В то же время Диксон мысленно представил совсем другую гримасу и дал себе обещание отрепетировать ее, едва останется один. Он подожмет нижнюю губу под верхние зубы, максимально втянет подбородок, выпучит глаза и раздует ноздри. От этого, конечно, лицо его густо покраснеет.
Уэлч продолжал распространяться о концерте. Вот как он стал Профессором истории, хотя бы и в их заведении? Статью напечатал? Нет. Преподавал как бог? Нет с восклицательным знаком. Тогда что остается? По обыкновению Диксон отложил вопрос до лучших времен. Уэлч может повлиять на его карьеру, по крайней мере в ближайшие четыре-пять недель, — вот о чем надо думать. До истечения этого срока его задача — всячески расположить к себе Уэлча, и один из способов — оставаться в сознании, когда Уэлч говорит о концертах. Но заметил ли Уэлч присутствие собеседника? Если заметил, то зафиксировал ли в памяти? Если зафиксировал, то повлияет ли это на впечатление, которое Уэлч успел составить относительно Диксона? Вдруг эти опасения стали до ужаса реальными. Диксон запаниковал. Содрогнувшись всем телом в попытке подавить зевок, он произнес со своим невыразительным северным акцентом:
— Маргарет уже лучше?
Лицо Уэлча, ком сырой глины, стало медленно меняться под невидимыми пальцами, в то время как внимание его, подобно эскадре неповоротливых линкоров старого образца, взяло курс на новый объект. Не прошло и двух секунд, как Уэлч сумел повторить:
— Маргарет.
— Ну да, Маргарет; я ее недели две не видел. — «А то и все три», — мысленно добавил Диксон и поежился.
— Да, Маргарет. Она быстро идет на поправку, учитывая обстоятельства. Все из-за этого негодяя Кэчпоула; впрочем, и последующие события сыграли свою роль. Мне кажется… Мне кажется, сейчас страдает только ее душа, но не тело. Физически, я бы сказал, Маргарет вполне восстановилась. Строго говоря, чем скорее она вернется к работе, тем лучше. Разумеется, в этом семестре уже поздно начинать читать лекции. Маргарет хочет работать, что совершенно закономерно. Одобряю. Работа поможет ей отвлечь мысли от… от…
Диксону все это было известно, причем лучше, чем Уэлч мог предположить, однако он чувствовал себя обязанным сказать что-нибудь вроде: «Понятно. Уверен, проживание в вашем доме, Профессор, под опекой вашей супруги, много способствовало скорейшему выздоровлению Маргарет». И сказал.
— Да, вероятно, есть в атмосфере нашего жилища нечто целебное… Однажды у нас гостил приятель Питера Уорлока[2], на Рождество это было, давно уже. Так вот он говорил примерно вашими же словами, Диксон. Помню, я сам прошлым летом возвращался с конференции экзаменаторов, из Дарема. Жара стояла несусветная, а поезд был… ну, в общем…
Последовало несущественное отклонение от курса, после которого эскадра, ничуть не обескураженная, продолжала привычный путь. Диксон давно не следил за мыслью Профессора и старательно замедлял шаг, по мере того как они приближались к главному корпусу. Мысленно же Диксон давно схватил Уэлча (серо-голубой жилет с начесом впился в грудь Профессора, перекрывая доступ кислорода) и бежит со своей ношей вверх по лестнице, по коридору, в туалет для преподавателей, где пихает не по-мужски маленькие ножки, обутые в мокасины, в унитаз, и трижды с наслаждением дергает за ручку, и набивает рот туалетной бумагой.
Поэтому, когда Уэлч, после небольшой глубокомысленной остановки, сказал, что должен подняться на третий этаж за «рюкзачишком», Диксон отреагировал мечтательной улыбкой. В отсутствие Уэлча Диксон прикидывал, как бы это напомнить Уэлчу про его же приглашение на чай, без того чтобы спровоцировать выражение искреннего недоумения на лице Профессора. Договаривались выехать в четыре на профессорской машине; теперь было уже десять минут пятого. При мысли о выходе с Маргарет в свет — первом после инцидента — им овладело дурное предчувствие. Усилием воли Диксон переключился на стиль вождения Уэлча и принялся пестовать негодование (чтобы заглушить плохие мысли), посвистывая и выбивая ритм длинным мысом коричневой туфли. Помогло — секунд на пять, не больше.
Как поведет себя Маргарет, когда они останутся наедине? Улыбнется? Прикинется, что позабыла дату их последней встречи, а то и вовсе не заметила, сколько времени прошло, — иными словами, станет набирать высоту, чтобы вернее атаковать? А может, нарочито замолчит, чем заставит его стартовать с разговора о погоде, на брюхе протащиться через затравленное «Как ты себя чувствуешь?», а на финише вымучивать оправдания и клятвы? С чего бы ни началась встреча, тональность ей давно задана — задана вопросом, не предполагающим ни ответа, ни уклонения от ответа. Вопросом, который Маргарет сопроводит каким-нибудь шокирующим откровением, каким-нибудь заявлением о себе, из тех, что производят эффект независимо от того, рассчитаны на таковой или не рассчитаны. Их с Маргарет свел набор добродетелей, в которых Диксон прежде себя и не подозревал, — учтивость, любознательность, естественное участие, наивная потребность иметь обязательства, искреннее желание дружить. Ничего не было предосудительного в том, чтобы преподавательнице пригласить домой на кофе преподавателя, младшего по рангу, но старшего по возрасту; всякий культурный человек принял бы приглашение без задней мысли. А там Диксон оглянуться не успел, как стал захаживать к Маргарет запросто, и даже в определенном смысле соперничать с Кэчпоулом, персонажем неустойчивого статуса, упорно маячившим на заднем плане. Месяца два назад казалось, что Кэчпоул подвернулся как раз вовремя и его появление снимет Диксона роль тактика-консультанта, чему Диксон немало радовался и даже под настроение думал, будто разбирается в сердечных делах. И вдруг Кэчпоул бросил Маргарет, причем прямо Диксону на колени. Выходило, что Диксон принял эстафету — теперь его черед метаться под ритуальным серпом вопросов и откровений.