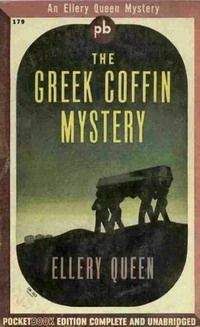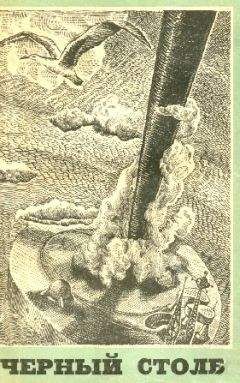ЛЕВ КВИН
ЗВЕЗДЫ ЧУЖОЙ СТОРОНЫ
Глава I
Пока еще не совсем стемнело, я шагал по асфальту. Грязи на нем было немного, лишь плоские, похожие на оладьи, ошметки с отпечатками шин. Потом на шоссе стало опасно: в обе стороны с незажженными фарами неслись полуторки, трехтонки, «Студебеккеры».
Пришлось свернуть на обочину. На подошвы сразу налипли тяжелые комья. Ноги скользили, все норовили разъехаться.
Старенький грузовичок с кузовом, покрытым брезентом, притормозил возле меня. Из помятой кабины высунулась веселая физиономия:
– Топаешь, лейтенант?
– Топаю.
– А то садись. Пять баек с тебя – и до самой передовой.
– Нет. Еще норму по топанью не выполнил.
– Ну, старайся.
Грузовичок покатил дальше, обдав меня теплой струей отработанных газов.
Вот и перекресток. Телеграфный столб на фоне фиолетового неба выглядит как гигантский крест на могиле великана. Здесь мне сворачивать.
Ноги увязали в густом киселе. Приходилось с силой выдирать сапоги, грязь при этом смачно чавкала.
В небе заурчал первый ночной самолет – не поймешь, свой или немец. Наверное, все-таки немец: вон как зашарили прожектора.
Возле калитки большая лужа – утром ее еще не было, постарался сегодняшний дождь. Из окна дома не выбивалось ни единой струйки света: хозяйка поверх опущенных картонных жалюзи набрасывала еще и плотное одеяло.
Кое-как помыл в темноте сапоги у колодца. Журавль надтреснуто, по-стариковски, скрипел на осеннем ветру. Осторожно, чтобы не поскользнуться на мокрой глине, нащупывая ногами выложенную кирпичом дорожку, пошел к дому.
Розовым сполохом осветилось небо. Грохнул разрыв, второй. Далеко…
Хозяйка, старушка, вся закутанная в черное, открыла дверь.
– Ио эштет киванок! (Добрый вечер! (венг.) – поздоровался я.
– Кезит чоколом, надыпагош ур. (Целую ручку, ваше благородие (венг.) Меня передернуло. Опять!
– Ну зачем! – сказал я по-венгерски. – Я ведь просил не называть меня благородием.
– Извините, извините, если что не так, – засуетилась старушка. – Мы всю жизнь…
Она закашлялась, держась высохшей рукой за грудь.
Из глубины кухни этакой грациозной кошечкой выступила Марика и стрельнула в меня узкими шельмовскими глазами.
– Добрый вечер, тавариш литинант, – пропела она. Русские слова в ее произношении звучали непривычно мягко.
– Сервус, Марика. (Принятое в Венгрии дружеское приветствие, наподобие нашего «привет»).
– Что-то вы поздно сегодня. – Исчерпав свои знания русского языка, она перешла на венгерский.
Марика появилась в доме не сразу. Когда я впервые пришел сюда с бумажкой от коменданта штаба, то увидел в углу, у плиты, странное маленькое существо, укутанное с ног до головы в какие-то тряпки. Мне тогда показалось, что это древняя старушка, лет этак под сто. На другой день я поразился глазам старухи: они были живые, смешливые и удивительно молодые.
На третий день свершилось чудо. Старушка исчезла, и вместо нее, словно бабочка из куколки, возникла двадцатилетняя Марика, вертушка, хохотунья и невероятная кокетка.
Не удивительно, что она маскировалась. Я сам видел рисунок в фашистской газете: две гориллы в рогатых шлемах подвешивали на заборе крохотного песика. Гориллы ухмылялись, у песика вывалился язык, и все это выглядело довольно гнусно. Я не сразу догадался, что гориллы – это мы. Только когда разглядел пятиконечные звезды на шлемах.
Я снял шинель, пристроил на стуле поближе к плите: намокла за день, пусть посохнет. Старушка, вся содрогаясь от сдерживаемых с трудом приступов кашля, прошаркала к плите и, покачивая головой, бережно расправила набрякшие тяжелые рукава шинели.
– Лейтенант уже дома? – спросил я.
– Тавариш Сенья отдыхают, – нежно пропела Марика и машинально поправила волосы. – Не будите, пожалуйста.
Я с досадой толкнул дверь. Так и есть! Сенька Гусаров дрыхнет на моей постели. Даже сапоги не снял.
– Подъем! – крикнул я с порога.
Гусаров лениво повернул ко мне голову. Ну что Марика нашла в нем? Узкоплечий очкарик, белесый и вытянутый, как хилый росток на подвальном картофеле.
– Что тебе надобно, старче?
– Катись-ка, золотая рыбка, с кровати. У тебя своя есть.
Я пришел сюда первый, и удобная кровать у окна принадлежала мне по праву. Но Гусаров все время зарился на нее.
Он сел, опустил на пол ноги.
– Когда человек злится, желчь растекается по телу и вскакивают прыщи. Они здорово испортят твое юное безусое лицо.
Он повел пальцем по верхней губе. Одинокие три волосинки на ней представлялись ему пышными гвардейскими усами.
– Ты бы их хоть тушью покрасил, – отпарировал я, по-обидному снисходительно улыбаясь. – А то даже Марике не видно.
Я зря потратил запал. Гусаров только презрительно приподнял бровь – вероятно, в глубине души он непоколебимо считал, что я томлюсь от зависти к его смехотворным усам.
– Ну, как у тебя дела? – спросил он, меняя тему.
– Так, – нахмурился я. – Никак.
– Опять никак? А у меня новость. И еще какая!
Врет?.. Нет! Такой гордый вид!.. Опять он меня опередил.
– Назначение?
– В группу Плиева.
– В казаки?! – я, хохоча, повалился на кровать. – Сенька – казак!.. «Газыри лежат рядами на груди, – пропел я. – Стелет ветер голубые шашлыки»…
Мне было вовсе не так весело. Вот уедет он, а я сиди дальше в этом проклятом армейском резерве.
– Не шашлыки, а башлыки, – поправил Гусаров. – Такие суконные капюшоны с длинными концами. Вообще красиво.
– Представляю: Сенька на коне! Репин! Верещагин! Вот бы Марика посмотрела!
– Дурак! – Гусаров поправил очки. – Во-первых, у них танков больше, чем коней. Во-вторых, я назначен замполитом роты связи.
Мне и вовсе расхотелось смеяться. Ну что такое! Я же кончил училище связи. Я, а не он!
– Не отчаивайся, старче! – Гусаров встал, ремни новенькой портупеи заскрипели сухо. – Приеду на место, договорюсь с командиром, затребуем тебя.
– Иди ты, знаешь куда!
В дверь постучали. Марика. Она вошла улыбающаяся, в ярком вышитом фартучке.
– Господ просят к столу. Побыстрее, иначе все остынет.
Она приглашала нас обоих, а смотрела при этом только на Гусарова. Он выпрямился, провел пальцем по своим жалким трем волосинкам.
– Что она сказала?
– Что напишет твоей жене.
– Какой жене? – растерялся он, даже перестал гласить усики. – У меня никакой… Нет, правда! Можешь посмотреть сам в личном деле.
– Оправдываться будешь после войны… Пошли рубать!
Стол был накрыт во второй комнате, за кухней. Скатерть, бумажные салфетки – Марика постаралась. Вкусно пахло чем-то жареным. Но я уже знал, что радоваться рано. Первые дни мы с Гусаровым вообще ничего не могли есть: все блюда, кроме сладкого, были отравлены паприкой – горьким красным перцем. Наши честные мясные консервы и брикеты гречневой каши из офицерского пайка превращались в огненную смесь. Потом, уступая нашим настойчивым просьбам, хозяйка наполовину уменьшила дозу огня. Но и теперь мы с трудом справлялись со своими порциями. Зато Марика морщила маленький носик: какая преснятина!
После ужина Гусаров стал просвещать старуху и Марику. Он считал себя тонким политиком, но его так заносило, что я ерзал на стуле от неловкости.
Тем не менее, я добросовестно, слово в слово, переводил весь его трепливый монолог. Марика смотрела на Сеньку восторженными глазами. Старуха все время тяжело вздыхала.
– Что вы? – наконец не выдержал я.
– Жалко.
– Кого жалко?
– Вас жалко – такие молоденькие. Ваших мам жалко. И наших мам тоже жалко. Сколько осталось без сыновей! Всех жалко.
– Что она говорит? – поинтересовался Гусаров.
Я перевел.
– Это примиренчество. Самое настоящее примиренчество! – взвился он. – Всех жалко… Спроси, может, ей еще и фашистов жалко?
Я спросил.
– Каждый человек чей-нибудь сын, – снова вздохнула старуха.
– Что она?
– Фашистов, говорит, не жалко, – перевел я. – Фашисты, говорит, пусть подохнут.
– Вот правильно! – одобрил Сеня. – Она еще не окончательно безнадежный элемент. Есть все-таки проблески сознательности…
Позднее, в нашей комнате, я сказал:
– Ну тебя к черту! Больше переводить не буду.
– Это почему? – опешил он.
– Потому! Ты же им сказки рассказываешь, самые настоящие сказки') Такая жизнь у нас я не знаю через сколько лет еще будет.
– Ну и что? Главное, чтобы им коммунизм в принципе понравился.
– Тогда ты и рассказывай про принципы, а не ври, что у нас все уже есть.
– Ну да! Конечно! – Сенька забегал по комнате, стуча сапогами. – Я им должен сказать, что у нас полстраны разрушено, что хлеб выдают по карточкам, что наши девчонки в ватники наряжаются… Так я их должен агитировать, да?
– Да ведь война, думаешь, они не понимают! А вот то, что у них помещики, а у нас нет – это как, по-твоему, не агитация? Или, видел, вчера к старухе врач приезжал. Сколько она ему отвалила? А он еще морду воротит! Это тоже не агитация, да?