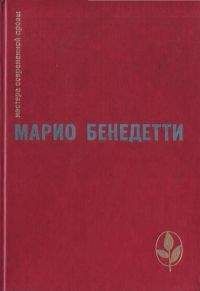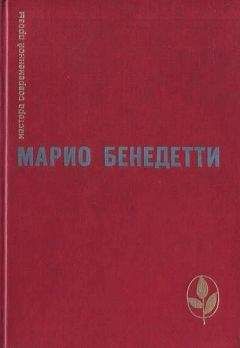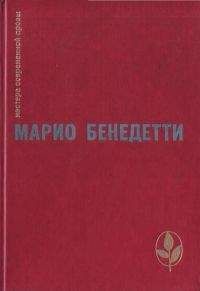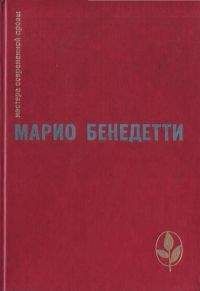Марио Бенедетти - Ближний берег
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Марио Бенедетти - Ближний берег. Жанр: Современная проза издательство -, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.
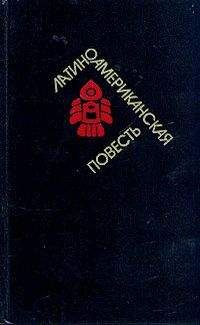
Марио Бенедетти - Ближний берег краткое содержание
Ближний берег читать онлайн бесплатно
Марио Бенедетти
Ближний берег
~~~
Mapиo Бенедетти (род. в 1920 г.) — уругвайский прозаик, поэт, критик. Начало известности писателя положил сборник рассказов «Монтевидеанцы» (1959), в котором определились его проблематика и художественные особенности: обман как социальный феномен, критический взгляд на жизнь городских «средних» слоев, отчуждение и нравственное падение человека в буржуазной среде, преобладание традиционно-реалистических принципов повествования. В таком же ключе строятся романы «Передышка» (1960) и «Спасибо за огонек» (1965). В начале 70-х годов писатель принимает активное участие в революционном движении в Уругвае; после прихода к власти военного режима живет в эмиграции. Исторический опыт революционной борьбы в Латинской Америке 70-х годов обобщен им в романе «Весна с отколотым углом» (1982). Этой же теме посвящена повесть «Ближний берег» (1977).
I
Уж не знаю почему, но, когда предки отправились в аэропорт Карраско проститься со мной и особенно когда я, шагая к самолету, увидел их вместе и в то же время раздельно — машут мне руками, мать прижимает пальцы к очкам, явно сдерживает выступившую слезищу, я и сам, черт побери, стал тереть глаз свободной рукой, — ну, в общем, как только я заметил их стоящими там наверху друг возле друга, эту пару, непостижимую, каковой она всегда была, разобщенную, вероятно, из-за меня, — внезапно всплыло далекое воспоминание, настолько давнее, что вначале я усомнился, мое ли оно, однако оно мое, а потому в самолете, после, то есть сейчас, сидя в девятом ряду (где запасный выход, где удобнее для ног, длинных, которыми Господь Бог меня одарил), я возвращаюсь к тому воспоминанию, восстанавливая в памяти подробности, пока не воссоздаю все полностью и не решаю пометками о давнишнем эпизоде начать записную книжку — по всей вероятности, ее никто и никогда не прочтет. Или прочтет? Итак, семья обедала, точнее, обедали взрослые: мой старикан и старушка (в ту пору они были не так уж стары), дед, дядя, похоже, еще кто-то, а я, четырех или пяти лет, гонял па новеньком трехколесном велосипеде, выезжая в сад и возвращаясь в дом, отчаянно «бибикая», по моему разумению, совсем как междугородный автобус; старикан делал мне знаки, чтобы я не устраивал тарарам, но внимания на него я не обращал. Вдруг он поднялся и, прервав лучшее из моих «биби», схватил меня за ухо, да так, что я аж созвездие Ориона узрел, хотя еще не знал его названия. В те времена я не был мстительным и сейчас не такой. Кто может разгадать, что во мне взыграло — эмоциональный порыв или спортивный дух, только я, хладнокровно оставив велосипед в дверях, вскарабкался на стул поближе к дяде и выдал отцу неожиданное свидетельство очевидца: «А я подсмотрел, как ты и Кларита вчера вечером под столом ногами прижимались». Мама широко-широко открыла глаза, никогда их не забуду; старикан сжал губы и посмотрел на меня с ужасающей покорностью. Будто антипод Христа, возглашающий: «Не допускайте детей ко мне», а может, просто подумал: «Мерзкий карапуз», — кто его знает. Во всяком случае, с этой минуты отец и мать месяца три не разговаривали. Мать громко советовала мне: «Скажи своему отцу, чтобы оставил деньги тебе на молоко». Старикан откликался на иной лад: «Скажи своей матери, что сегодня я ужинать не приду». Само собой, Кларита уже не появлялась в доме, нашем милом отчем доме. Конечно, как я осмеливаюсь считать теперь, моему старикану очень нравилась эта красотка (лет на десять моложе его и лет на пять — мамы), стройная блондинка с глазами цвета портулака, лицо ее — лишь присниться может в прекрасном, но не кошмарном сне; а как умиротворенно она умела смотреть; руки у нее были изящные, мягкие, с голубоватыми прожилочками, едва заметными, тем не менее их замечали все, в том числе такой дурень пяти (или шести?) лет, как нижеподписавшийся. Ведь действительно нужно быть круглым дураком, чтобы испакостить жизнь бедному старикану какой-то дурацкой фразой. А кроме того, по-моему, и Кларите он нравился. Все дело в том, что она до спазмов в желудке боялась мамы, которая сразу же ее невзлюбила. Не сказал бы, что это была ревность недоверчивой супруги. Скорее вполне осознанное чувство ненависти, разгоравшееся медленно и неукротимо.
Стюардесса подходит ко мне с традиционной кока-колой, а я весь — в угрызениях совести. Никто уж не спасет меня от сознания, что той проклятой фразой я навсегда отравил жизнь отцу. Он и раньше не ладил с мамой. Вернее, никогда у них не ладилось. И никогда я не видывал таких разных и так разочарованных друг в друге людей. Старикан — неизменно впечатлительный, пылкий, правда, по-моему, чересчур робкий, к тому же интеллигент, каким может быть почти инженер (что не так уж много, зато интеллигентности у него побольше, чем у инженера). Вечно он был завзятым читателем-книголюбом, любит живопись и музыку и, к счастью, не полагает, как некоторые его почти коллеги, что жизнь — это логарифм. А вот мама, наоборот, человек довольно упрямый (если обойтись без субъективности, что вообще-то недопустимо для любящего сына, пришлось бы сказать — она упряма как мул), чувства ее засушены (ее волнуют только собственные беды и никогда чужие), она гордится своим энциклопедическим невежеством, не переваривает ни книг, ни вообще искусства, зато знает домашнюю работу, в душе добрая (только без глубокого бурения до души не доберешься), склонна чаще к упрекам, чем к терпимости, — словом, не сахар. Думаю, подлинному освобождению (как говорят еще — второй независимости) старикана помешали две причины: а) мои изыскания в подстолье, погубившие в зародыше многообещающую связь, и б) неизлечимый католицизм моего родителя, исключавший возможность развода, а он стал бы для него спасением и освобождением. По моим смутным воспоминаниям, Кларита была веселой, очаровательной, настолько симпатичной, что даже меня покорила. Не раз я подумывал в свои нынешние семнадцать лет (между прочим, достойно отмеченные в тюремной камере), как было бы приятно встретить — не Клариту, разумеется, ведь теперь она, если еще жива, должна быть старушенцией лет тридцати восьми, — а такую же вострушку, какой была Кларита, когда прижимала под столом свои точеные ножки к брюкам старикана.
II
Произошедшее в эти последние месяцы, вероятно, содействовало сближению моих родителей. Короче: я оказался за решеткой. Потому они и выглядели в аэропорту изрядно взволнованными — наконец-то им удалось отправить меня в Буэнос-Айрес. Понимаю, для них спокойнее. Для меня тоже. Вторую тюрьму я и в кино не хотел бы видеть. Отныне и впредь кинофильмы для меня делятся на две категории: в одних есть тюрьмы, в других — нет. Предпочитаю смотреть только вторые. До смерти осточертели мне тюрьмы, пусть всего за тридцать четыре дня. Исчерпал, как говорится, тему. А вот вам (кому это «вам»?) нет надобности строить иллюзии, принимая меня за молодого революционера, борца за правое дело, за эдакую выдающуюся личность; я обязан пояснить, что попался не из-за политики, а по глупости. Горько признаться, но это чистая правда: попался по глупости. Каюсь, соваться в политику — не мое дело. В моем классе были ребята, которые не совались в политику, потому что им нравилось учиться, а политика отнимает много времени, это точно. Что же касается меня, то учебой я не увлекался и не увлекаюсь. Кем угодно меня можно назвать, только не зубрилой. Так что в классе я представлял собой единственный экземпляр вымирающего вида — тех, которым не по нутру ни учеба, ни политика. И все же я не был пропащим: всегда переходил в следующий класс, значит, строго необходимое выучивал. Я даже сказал бы, мне хватает послушать учителя, когда он зудит в классе, — и все. Голова у меня такая, что факты, даты, формулы, имена неизгладимо застревают в ней. Но не думайте, что я безразличен к политике. Вот уж нет. Если я против математики, так почему же мне не быть против фашизма? Не люблю, когда меня толкают, тем более автоматом. Это ясно. Что мне не нравится в политике, так это бесконечные дискуссии, голосования уже перед рассветом и особенно самокритика, она напоминает давние и неприятные времена, когда приходилось исповедоваться — вот это мне совсем не по вкусу. И не потому, что было или сейчас нужно что-то скрывать. Никогда не было за мной серьезной вины, требовавшей исповеди или самокритики. Наверное, потому я и не выношу их. Может, завидую немного тем типам, которые расписывают свои смертные грехи потрясенному священнику или голосят о своих мелкобуржуазных пережитках на студенческих собраниях. Однако (повторяю) я попался не из-за чего-нибудь, а по глупости. В четверг двадцать второго отмечался год со дня смерти Мерседитас Помбо, — может быть, видели это имя в газетах (не в Монте, конечно, а в Байресе[1], девушка что надо, — которая умерла у них под пытками. Говорят, ее подвергли истязанию: надели пластиковый мешок на голову, а у нее была астма… Так вот, идея стала созревать понемногу (первым ее высказал Эдуардо), и наконец программа прояснилась: в четверг каждый должен прийти с красной розой и положить ее на учительский стол. Об операции договорились в полной тайне. Я был так далек от политики, что мне сообщили последнему. Но я все равно сказал «да». Раз нет бесконечных собраний, голосований на рассвете и самокритики, я всегда с ними. К тому же затея с красной розой мне понравилась. Я им сказал: «Это вызов поэтический, вызов не без выдумки». И принес розу, которую, само собой, стибрил в соседнем саду, принадлежащем одному «отлею», иначе говоря (для непосвященных) — отставному лейтенанту. Каждый пришел с розой и положил па стол. Ни один не сдрейфил. Тогда нас всех вывели в патио лицея и поставили к стене. Нет у них поэтического чувства, что поделаешь. Потом нагрянули мундиры, и опять тот же вопрос: кто придумал? Все знали, что Эдуардо, но никто ничего не сказал. Прекрасным было молчание. Начали вызывать по пять человек и допрашивать в канцелярии. Вот там-то я и сглупил. В своей группе я был первым из пяти. Тип спросил, не знаю ли я, кто это придумал. И я бухнул, что про свою розу придумал я, но не знаю, кто придумал про остальные розы. Мне показалось, что эта глупость — верх изобретательности. Не тут-то было. Второй тоже сказал, что он придумал про свою розу, но не знает, кто придумал про другие розы. Остальные трое сказали то же самое. Не понимаю как, только о нашей уловке быстро стало известно всем, и, когда вошел следующий квинтет, все пять ответов были одинаковы, так и пошло. Усталость начала подрывать твердость молчавших в течение первого получаса, некоторые ребята, не стесняясь, уже подавали мне знаки одобрения, приветствовали меня, чуть не аплодировали. К героям я не отношусь, но должен признаться, что мне это понравилось. Все оказалось легко. Не знаю, как такая идея взбрела мне в голову, а результат был неплох. Тем не менее мундиры меня засекли: я же первым дал объяснение. Должно быть, они подумали, что я вожак или что-то в этом роде. Снова вызвали меня. «Так это ты все задумал?» — сказал тип с топкими усиками, у которого была еще отвратительная экзема под глазом. Я пустился в разглагольствования: мне просто захотелось принести розу училке, потому как она очень добрая и очень хорошо растолковывает предмет — речь-то идет о математике. Подобное называют ложью во спасение — у этой мымры я ни фига не понимал и к тому же терпеть ее не мог, не потому, что она противная, а потому, что математичка. Но тип не только не проявил интереса к моим блестящим высказываниям, но двинул меня по правой скуле, которая тут же выпятилась па первый план. Наверняка это послужило бы росту моего престижа в патио, но случая покрасоваться не представилось. Двое из вопрошальщиков схватили меня за руки и потащили из канцелярии. Засунули в арестантскую машину и увезли в полицию. Попытался было я сослаться на то, что я несовершеннолетний, потому… удар в почки… это противозаконно… ногой по щиколотке… Следовательно, я отказываюсь от темы несовершеннолетия. Меня запихнули в камеру, где от вони голова кружилась. За месяц, что я там пробыл, меня вызывали много раз — и только для битья. Вопросов почти не задавали, просто колотили. Ни «пиканы»[2] тебе, ни «субмарины» — так, тумаки и пинки. Что называется, попал в привилегированные. Свой статус я оценил, присутствуя на сеансах «пиканы» и «субмарины». Наверное, меня приводили, чтобы устрашить. Действительно было страшно, да и кого не испугает такое. Те, кого пытали, не были несовершеннолетними, как я, но и ветеранами не были. Одного старика — не знаю, седой он или нет, он всегда был в капюшоне — но мускулы дряблые, как у тех, кому за тридцать. Ну и держался этот старик! Те, кто помоложе, ничего не говорили, ни в чем не признавались, не называли ни имен, ни фамилий, что хотели выведать у них палачи, но когда их начинали пытать, они орали будто оглашенные. А старик не доставлял палачам даже такого удовольствия. Я так и не слышал его голоса, низкий он или высокий. Старик лишь сжимал кулаки и — привет. Когда сеанс заканчивался — а длился он иногда часами — старик сознания не терял, выходил сам. Один парень впал в беспамятство и в этом состоянии, похоже, остался. Такое палачей приводит в бешенство. Худшее, что может им подстроить арестованный, — это испустить дух. Тотчас же вызывают врача воскрешать. И доктор, сукин сын (тот самый, который говорит, до какого предела можно пытать, чтобы человек не отдал концы), делает все возможное, но иногда покойники упрямы, и никому не удается убедить их снова дышать. Тогда палачи обвиняют врача, а тот в ответ ни звука, он-то понимает, что они способны пытать и его. Тем временем на лишившегося чувств льют воду, хлопают его по щекам, это единственный случай, когда палачи, видимо, ставят на жизнь. И все же некоторые из подвергнутых пыткам подводят — умирают. В таком случае разгорается перебранка. Однажды двое сцепились. И уж думал, собираются применить «пикану» друг к другу, но до этого, понятно, не дошло. Меня тоже держали в капюшоне, снимали, только когда заставляли быть зрителем. Несколько раз меня вырвало, один раз — на штаны полицейскому. Не нарочно, но неплохо получилось. Ну, ясно, в тот вечер меня исколошматили, как боксерскую грушу, думал, будут пытать, — не дошло. Видно, у них инструкция: несовершеннолетним — только кулаки и пинки. Как-то я смог переговорить с двоими из соседней камеры. Я был один в своей, крошечной и вонючей, а у них камера побольше, и, естественно, больше пахло дерьмом. Там их было вроде трое: студент, банковский чиновник и рабочий. Когда они немного приходили в себя и начинали нормально дышать, тотчас же принимались спорить, только и слышно было: очаг выступления, партия, мелкобуржуазные отклонения, извращения, ревизионизм, и-и-и понесло… Ну, точно на собраниях в лицее. Иногда они так яростно спорили, что крики слышались по всему этажу. Я ни черта не понимал, да и сейчас не понимаю. Палачи пытали всех троих одинаково. Значит, в глазах тюремщиков все трое — одно и то же: народ. У тюремщиков подход действительно единый.
Похожие книги на "Ближний берег", Марио Бенедетти
Марио Бенедетти читать все книги автора по порядку
Марио Бенедетти - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки My-Library.Info.