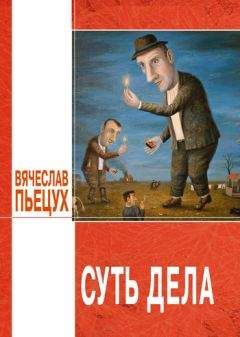Говорят, родовая память бывает особенно сильна в тех социях и народах, которые основательно настрадались от богоданного климата, превратностей исторического процесса и, главное, от властей. Если так оно и есть, то мы, русаки, должны быть памятливы необыкновенно, потому что со времен Аскольда и Дира наши люди немало хлебнули горя, и какие только беды мы не претерпели, и кто только нас не пробовал на излом.
Во всяком случае, Васе Ландышеву, студенту-историку Московского университета, было отлично известно, почем в России фунт лиха и какими последствиями у нас чреват независимый взгляд на вещи, и тем не менее он совершил поступок, который никогда не совершил бы осмотрительный человек.
Именно, на четвертом году учебы, когда приспела пора писать очередную курсовую работу, он заявил на усмотрение кафедры сразу две темы: «Стигматы[1] как психофизический феномен» и «Норманнские конунги на Руси». Василий вообще был юноша взбалмошный, строптивый и, по мнению сокурсников, даже несколько не в себе.
Заведующий кафедрой, Хохлов Павел Петрович, ему сказал:
— Не жалеете вы себя, Ландышев, просто-напросто лезете на рожон. Ну, виданное ли это дело, чтобы писать курсовую работу про стигматы, когда в стране тридцать лет как торжествует воинствующий атеизм?! Кем, простите за выражение, надо быть, чтобы продвигать реакционную норманнскую теорию, которая идет вразрез с курсом партии на борьбу против низкопоклонства перед Западом и которую еще Ломоносов изобличил?! Это вылазка, Ландышев, другого слова не нахожу!
Василий слушал и только моргал правым глазом в недоумении, поскольку он никак не ожидал такой ожесточенной реакции на предметы, казалось бы, далекие от злобы дня и представляющие голый академический интерес. Наконец, он попробовал возразить:
— Однако же, Павел Петрович, существование стигматов — это научный факт. И первых государей на Руси звали Ингвар и Хольг, а не Сережа и Михаил, — это тоже научный факт.
Профессор ему в ответ:
— Знаете, Ландышев, я не удивлюсь, если вам намылят холку за немарксистскую позицию и субъективный идеализм.
Как в воду глядел профессор: через два дня Василия неожиданно перевели на вечернее отделение, а еще прежде влепили строгий выговор по комсомольской линии именно что за субъективный идеализм. Дальше — пуще: он было устроился бойцом вохра на Электроламповый завод, так как студентам вечерних отделений полагалось трудиться на производстве, но и недели не прошло, как его взяли неподалеку от знаменитой готической проходной, в Медовом переулке, посадили в черную «эмку» и увезли.
Ехать было недалеко, всего-то-навсего до Лефортовского следственного изолятора, но Василию показалось, что дорога заняла целую уйму времени, поскольку от неожиданности и испуга он впал в какое-то забытье. Поместили его в небольшую камеру, предварительно подвергнув классическим процедурам, однако же набитую заключенными сверх всякой меры, и в первую минуту у него сердце захолонуло от смрада и духоты. Он сел на пол рядом с поганым баком, который на фене называется «парашей», поджал под себя ноги, положил голову на колени и призадумался о горькой своей судьбе. Жизнь кончена, это было ясно, оставалось только сообразить, за что и почему на него свалились все давешние несчастья, включая тюремное заключение, неужели за пикировку с заведующим кафедрой, и что-то теперь с ним будет, и куда клонится его злонамеренная звезда…
Сосед, тоже устроившийся на полу бок о бок с Ландышевым, приличного вида мужчина, пожилой, лысый, с востренькой бородкой, его спросил:
— А тебя-то за что упекли, браток?
Василий, тяжело выдохнув, отвечал:
— Полагаю, за норманнских конунгов на Руси.
— Я, конечно, не в теме, но думаю, что за такую ерунду тебе светит так называемый «детский» срок. Лет пять лагерей, не больше, плюс, конечно, ссылка куда-нибудь в северный Казахстан.
— Не весело…
— Куда уж веселей! Но все-таки это не «высшая мера социальной защиты», и даже не двадцать пять лет урановых рудников. Мне-то как раз шьют соответствующие статьи.
— Это за что же?
— За вредительство на производстве и шпионаж.
Василий испугался и даже отодвинулся от соседа, уперевшись в поганый бак.
— И на кого же вы шпионили? — настороженно спросил он.
— То ли я работал на Израиль, то ли на Парагвай. Я толком не разобрал.
— Невероятно! Неужели вы взаправду шпионили против нас?!
— Да бог с тобой! Я даже не знаю, где находится этот долбаный Парагвай! На воле я был начальником смены на «Серпе и молоте», у меня на шее шестеро детей, супруга работала уборщицей в райкоме партии, один костюм я таскал пятнадцать лет кряду — какой уж тут, к чертовой матери, шпионаж!
— Тогда в чем же дело?
— А хрен его знает, в чем! Я как-то раз пьяным делом поговорил по душам с одним мужиком из нашего цеха, сменным мастером по фамилии Петухов. Тема была такая: Ленин и его соратники по борьбе. Как это, говорю, товарищ Каменев скрывался вместе с Лениным в Разливе от ищеек Временного правительства и вдруг оказывается, что он планировал покушение на вождя?! Как это, говорю, товарищ Зиновьев с горсткой красногвардейцев отстоял Петрокоммуну от Юденича и вдруг он готовит фашистский переворот?! Нестыковка, говорю, получается… Вот, видимо, на этой теме и погорел.
— Это что же такое творится, сосед, что такое с нами происходит-то?
— Думай сам. Есть голова на плечах, вот ты на досуге и размышляй.
Подумать действительно было о чем, тем более что среди сокамерников оказались люди слишком далекие от политики, как то: один профессор из института Тонкой химической технологии, два энергетика с 1-й Московской электростанции, дворник из Плотникова переулка, один знаменитый букинист, два школьника и бессчетно марксистов-фундаменталистов, денно и нощно обсуждавших ленинские труды.
И досуга у Васи Ландышева оказалось в избытке, потому что на первый допрос его вызвали только месяца два спустя. Вася к тому времени исхудал, цветом кожи ударился чуть ли не в зеленцу, так как все это время сидел на супе из килек и пустой перловой каше, но в лице у него появились какая-то странная строгость, спокойствие, даже отрешенность, как у помешенного или как у закаленного бойца, которого враги приговорили к смерти за правоту.
Когда Василия привели в кабинет следователя, он первым делом внимательно огляделся по сторонам и удивился тому, что, если не считать табурета, намертво привинченного к полу посередине помещения, обстановка была самая домашняя: письменный стол следователя был аккуратно накрыт скатертью с бахромой, на нем стояла бронзовая лампа под зеленым абажуром и то же самое с бахромой, на окнах были гардины и какие-то комнатные растения в жестяных банках из-под американской тушенки, у правой стены стоял драгоценный книжный шкаф с делами железного дерева, а слева, в простенке, висел портрет Феликса Дзержинского, такого печального, точно его незаслуженно обидели, — словом, Василий удивился, но виду не показал.
Следователь, белобрысый, моложавый человек в роговых очках, усадил его на табурет, представился и завел:
— Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности, направленной против советской власти, которая вылилась в создание подпольной террористической организации студентов, по преимуществу из недобитых меньшевиков. Давай, разоружайся перед партией, сукин сын, пока я тебе уши не оборвал.
Следователь вынул из пластмассового стакана обыкновенную деревянную ручку со стальным пером, обмакнул ее в чернильницу и уже собрался записывать показания, когда Василий Ландышев спокойно ему сказал:
— Да бросьте вы чепуху молоть.
Следователь даже опешил, и видно было, как он из-за своих роговых очков вытаращил глаза.
— То есть как это, чепуху молоть?! — с угрозой в голосе сказал он. — Ты понимаешь, где ты находишься, сукин сын?!
— Отлично понимаю, — отвечал Вася. — Я нахожусь в застенке у врагов советского народа и многострадальной моей страны. Полагаю, и для вас не секрет, что в СССР тихой сапой совершился государственный переворот, к власти пришел фашизм чистой воды, большевики-ленинцы физически уничтожены, всеми делами заправляет ставленник Адольфа Гитлера, а ваше заведение — это не что иное, как филиал гестапо, только об этом не говорят.
Следователь медленно поднялся из-за стола, подошел к Василию, все еще держа в пальцах ручку, с которой капали на пол фиолетовые чернила, и встал перед ним, растопырив ноги в надраенных хромовых сапогах.
Василий продолжал:
— Как советский человек, комсомолец и убежденный большевик считаю себя в плену.
Едва он выговорил эту фразу, как следователь с размаху всадил ему в правую щеку свое перо.