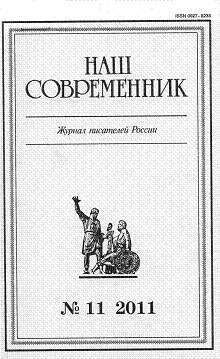С неба упало три яблока:
Одно — тому, кто сказки сказывал,
Другое — тому, кто сказки написал,
А третье — тому, кто прочитал.
Тимофей Круглов женился рано.
Под стать себе облюбовал он в Рожнове скотницу Наташку — крепкую, разбитную, веселую. Молодожёны жили в новом брусковом доме, ходили на праздники под руку, — как сказали бы рожновские жители, «под крендель».
Высокий, сухопарый, суетный Круглов от темна до темна стерег стадо, стрелял, как из ружья, конопляным кнутом с повивкой конского волоса.
За лето скотина выбивает выгоны. Осенью в поисках отавы Тимофей уходит далеко от села. Все ложбины, лесные куртинки пролезет, а овец накормит, напоит свежей водой.
Для Наташки осенняя пора — сущее наказание: чтобы отнести обед Тимофею, она долго ищет овечье стадо, бродит по оврагам и мелколесью в любую погоду.
— Тимоша! — кричит она, сложив ладони патрубком. — А-у!..
— Ого-го-о!.. — откликается Тимофей сиплым простуженным голосом.
Чапыжник царапает руки, цепляется за одежду, а Наташка, аукая на ходу, спешит на голос.
Круглов радуется приходу жены, светлеет лицом, веселее покрикивает на овец, собирает их на поляну. Преклонив колени, с трудом разводит костер, чтобы согреться, просушить портянки, пообедать в тепле. А рядом усаживается Наташка, ногами вперед. Вынимает из сумки хлеб, чугунчик наваристых щей и крупитчатую кашу, — все это она раскладывает на клеенке, не торопясь, основательно, как дома.
— Пожуй со мною, — просит ее Тимофей, не спуская добрых ласковых глаз. — Ух, и хороши щи! Прямо объеденье! Со свежей капустой!
— Кушай, ешь вдосталь, а мало будет — еще принесу…
Наташка подкладывает Тимофею хлеб, думает свое…
Сырой осенний ветер дует порывисто, треплет развешенные на рогатине портянки. Овцы, понурив головы, сбились в кучу. Небо грозит проливным дождём.
Наталья обирает листья, падающие с куста на клеенку; окидывает взглядом из-под руки бесприютные дали и прерывисто вздыхает.
— Бросил бы ты пастушить, Тимоша, — говорит она тихим, вкрадчивым голосом, — бросил бы. Ишь, как у тебя в коленках скрипит от простуды. И от голоса отстал, на овец орамши. Перебирайся на ферму. Истопником. И тепло, и крыша над головой, и…
Тимофей делает вид, будто не слышит жены. Сороки, качаясь на ветвях, трещат отсыревшими голосами. Круглов черпает из чугуна щи деревянной ложкой. С каким-то особенным наслаждением жует кашу.
Наевшись, он увязывает в белую тряпицу посуду, кости и крошки вываливает собакам.
— Никак это не выйдет, чтобы, к примеру, бросить, — нехотя говорит он. — Сердчишко прикипело к полям. Тут мне и воля, и доля. Пахом — я с ним еще подпаском начинал — так говаривал: на свободе-то хоть сам себе голову откуси — никто тебе слова не скажет.
— Пахом? Тот, что сказкам да байкам тебя выучил?
— Он. Эх, покойник и мастак был на сказки. Бывало, заведет, заведет — про все на свете забудешь.
— Да и ты горазд, — улыбается Наташка. — Навострился у него, навык.
И, затянув потуже платок, Наташа просит сказочку. Круглов докуривает козью ножку. Затягивается глубоко, до дна легких. Начинает издалека: «Жили-были дед да бабка, ели кашу с молоком».
— Раз сидят они на лавочке, рядышком, как голубки, как вот мы с тобой — такие-то. Только старые оба, лет им под сто. Старуха вдруг возьми и запой…
Тут Тимофей меняет голос и поёт тонюсенько, как могла бы петь только старуха:
— Была б я лёгкой пташечкой,
Умела б я летать…
— А старик был дошлый, сумрачный. Посмотрел на свою супружницу и тоже запел:
Беззубая ты, старая…
Чем стала бы клевать?
Рассказывал Тимофей всегда с самым серьёзным лицом, с тоном лёгкого недоумения в голосе. Ждал, когда Наташка отсмеётся. И лицо, и движения его — всё было вкус и мера. И, может быть, поэтому Наташка пуще прежнего заливалась колокольчиком, запрокидывала голову.
Присказки, байки, пословицы и канавушки как-то скрашивали неуютность серого дня с низкими, тяжёлыми облаками, с облетевшими, продутыми насквозь кустами и свалявшейся по низинам блеклой травой-отавой. Наговорившись вдосталь, с веселым сердцем и чувством облегчения Тимофей вскидывал кнут, сухо стрелял им, выгоняя овец на свежую поляну.
Наташка спешила на ферму, додумывая на ходу рассказанное мужем…
Так жили они в мире и согласии лет двадцать — двадцать пять. Души друг в друге не чаяли. Но вот как-то пришло из города письмо от дочери: что-то не ладилось у неё там. Прочитали и решили: надо ехать. И уехала Наталья в город. Тимофей остался один как перст — смотреть за скотиной, беречь дом. Да вот только задержалась что-то в городе Наташка. Все писала Тимофею длинные письма, обещала вот-вот вернуться, а не ехала. Затужил Круглов, загоревал по своей «сударушке». Раз даже собрался вслед за женой. Сложил пожитки, крест-накрест заколотил окна… Да что-то раздумал. А может быть, новое письмо в прах разбило его намерение. А время шло…
Вот в такую-то плохую его пору я и застал пастуха, приехав однажды в Рожново. Было это ранней весной. Повстречались мы на задворках. Шёл он тихой походкой усталого, пожившего человека. Одет был домовито, чисто: на ногах крепкие яловые сапоги с ушками, на плечах — дублёный полушубок мехом внутрь; сам простоволос. Но как-то по-особенному смотрели теперь его глаза. Не грустно, нет, а как-то просто, мирно. И горькие морщины углубились у рта.
— На почту ходил? — спросил я.
— А то куда же! — с грустной готовностью ответил он и посмотрел пристально. — Ты чей же, не угадаю?
Я назвался.
— Без жены-то дом — сирота, — продолжал Тимофей.
Я посоветовал ему вызвать сюда всю семью.
— Куда там, — слабо махнул он рукой, — и слушать не хотят. Сказано: жена — солнце, а дети… Эхма, дети — это… звезды. Так и живу, как обсевок какой. А я ведь поболтать люблю, рассказать что ни то.
— Сказки, я слышал, сказываешь?
— Сказки-то? Как же, сказываю мужикам нашим. Они ко мне чуть не каждый вечор валом валят. Приходи и ты, авось не соскучишься.
Освободившись от дневных забот, я дождался сумерек. Совсем стемнело, когда я шел к Тимофею. По улице брехали собаки, а у клуба, на ярко освещенной из окон проталинке с визгом и гиканьем тусовалась молодежь. Играл баян, звенела, точно бубен, гитара.
Я свернул вправо, к дому Круглова. Лишь отворил дверь — в лицо пахнуло теплом березовых дров, тем приятным, с детства знакомым запахом каленых поленьев. Хозяин сидел на пятках перед грубкой — невысокой маленькой печью для обогрева горницы, — сидел и помешивал кочережкой в топке. Низко светила лампочка. От грубки вдоль стены висели мокрые рубахи, носки, порты. Кочерёжка тихо позванивала об угли, дрова с шипением рассыпались.
Не успели мы перекинуться двумя-тремя словами, как вдруг протяжно взвизгнула и хлопнула дверь, и с крепким топотом добротной обуви в избу ввалились рожновские мужики, из тех, что любят послушать байки.
— Вечор добрый! Как живём-можем? — спрашивали они вразнобой. Сами вольно и широко занимали лавки. И по всему: по тому, как садились они, не спрашиваясь, как закуривали, как говорили — тотчас было видно, что они тут завсегдатаи.
— Живём! — сразу повеселев, отвечал Круглов. — Жи-вё-м! Хлеб с салом жуём. Приход ваш к счастью…
— Дома сидели-сидели — скука смертная, тоска зеленая. Приперлись вот, чай, не последние…
— А я у бабы своей просил на поллитровку, — говорил широколицый ноздрястый мужик. — Просил-просил — не дала. Иди, отвечает, к Тимохе сказки послушай, авось поумнеешь.
Общий смех заглушил его последние слова.
— Милое дело! — блеснул глазами Круглов. — А тебе бы, Никодимка, все вино да домино. Ну, так. Грубка нагрелась, сейчас и тепло пойдет.
— Давай-давай, начинай, — торопил Башлыков, — за тем и шли.
Это был высокий плотный мужик, широкий и важный, в клетчатой канареечного цвета рубахе. Он сразу уселся прочно, точно на века, подпирая плечами стену. Я исподтишка обвел глазами собравшихся и тотчас понял: он тут за старшего.
— Вали, Тимоха!
— Согрелись!
— Начинай.
— На море-океане, на острове Буяне лежит бык печёный. В одном боку нож точёный, в другом — чеснок толчёный. Знай помалкивай да кушай, да мои побаски слушай…
Голос Тимофея, глуховатый, чуть с сипотцой, все понижался, переходя почти на шепот. И надо было видеть, слышать, а главное — чувствовать Тимофея в ту минуту. Он как бы оживал, весь преображался, исподволь додумывая что-то, щурился на слушателей, словно по лицам и фигурам схватывал их настроение и согласно с этим настроением отыскивал в своей памяти нужное словцо.
— В некотором царстве, в ненашем государстве, жил-был лесник, звали его Иваном. Раз пошел лесник в обход поглядеть, нет ли где порубки, порчи или озорства какого. Шёл он, шёл, а уж смеркаться стало. Крупный дожжик начал щелкать Ивана в лицо. Ветер поднялся сильный-пресильный, лес гудит, аки в бочке, елки ходуном ходят, скрипят, веткой об ветку стучат… Жутко стало Ивану, страшно, а до дому еще далеко-далече. Тут и темень нагрянула. Ну, идет лесник, задумался, об жене соскучился. А жена у него красавица, высокая да черноглазая, словом, пух в атласе. Тут показалось Ивану, будто бы он заблудился. «Что же это я, такой-сякой, собак с собой не взял, авось не скучно бы было!» А молонья так и жгёт, так и жгёт, озаряет дорогу, как днем. Гром как вдарит, и раскатилось окрест по всему лесу. Еще больше струхнул Иван, чует: сердце дрожит, как овечий хвост…