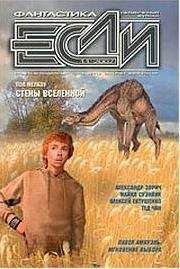Владимир Фёдорович Топорков
Тётя Фрося
Семья учителя появилась в деревне в конце августа. Перед закатом, когда уставшее возбуждённое солнце скатилось к недальнему леску, и улеглась пыль, взбитая на большаке юркими машинами, все обитатели деревни – и малые и старые – потянулись к мосту, куда обычно подгонял стадо деревенский пастух Филя Савок. Сегодня Савок, видимо, спешил – на опушке гулко, как выстрелы, раздавались удары его кнута, и голос, зычный, немножко гортанный, доносился в деревню.
– Не балуй, Стрекоза! – кричал Савок, и люди улыбались. Все коровы у Фили были «напрозыв», как выражался Алексашка Федякин, и если Савок вспомнил Стрекозу, это значит, что корова Нинки Кузнечихи, рыжемастная, с крутыми рогами, дуроломная по натуре, поддела какую-нибудь зазевавшуюся подругу на острые, как штык, рога. Резкий щелчок кнута заставил вздрогнуть Кузнечиху, рослую бабу, сухую и поджарую, чем-то напоминавшую деревенскую пожарную каланчу, и Алексашка ехидно прыснул.
– Держи уши, старая! – крикнул он и с победоносным видом оглядел сельчан. Он давно был не в ладах с Кузнечихой, которая два года назад, сразу после войны, продала Федякину поросёнка. Живность недолго пожила у Алексашки и подохла, и тогда Федякин на конюшне принародно начал попрекать Кузнечиху.
– Колдунья, мать твою чёрт! – кипятился Алексашка. – Подсунула, стерва, такую дохлятину… Обманула на сто рублей, осина худая.
Нинка стояла с граблями – бабы собирались ехать на скирдование сена на луга – долго молча причмокивала губами, будто сосала леденец, а потом, взяв грабли наперевес, как мужик берёт цеп для молотьбы хлеба, пошли на Алексашку, и тот, наверное, от неожиданности, не среагировал, пропустил удар. Резкий, с придыхом, он пришёлся по плечу, и граблиная ручка сломалась, как спичка. Алексашка повалился в пыль, захрипел, как необученный коняга, а потом завыл по-собачьи, закатался по выбитой, превращённой в ток луговине. Он катался минуты три, но никто не поспешил к нему на помощь. Наоборот, толпа грохнула, мужики с восхищением смотрели на Кузнечиху, лихо перемигивались. А Кузнечиха, с грустью поглядывая на оставшийся в руках черенок, бубнила себе под нос:
– Ишь, чёрт паршивый, ввёл в грех! Кто мне теперь, вдовой, грабли ладить будет! Был бы мужик в доме…
– Алексашка наладит! – крикнул кто-то из мужиков. – Он ведь виноват, что у него спина крепче граблей оказалась!
Толпа опять грохнула, а Кузнечиха продолжала бубнить:
– Как же, наладит он, сук корявый! Он в доме-то порядок навести не может. Поросёнок почему сдох? Их, свиней-то, кормить надо, свинья не медведь, лапу не сосёт…
Федякин поднимался со стоном, медленно, трясущимися руками начал вправлять выбившуюся из-под брюк-галифе ситцевую рубаху, в которой разгуливал круглый год. Он пошёл на Кузнечиху, и, может быть, грянул бы снова «полтавский бой», но колхозный бригадир Семён Степанович, высокий щербатый мужик, во рту у которого торчали два жёлтых прокуренных зуба, преградил дорогу Федякину:
– Успокойся! Не стыдно женщину обижать?!
– Нашёл женщину! – крикнул Федякин. – Она не баба, а конь…
Но дальше ему точно на язык наступили, он завертел худой, мосластой шеей, цыганистые глаза его, кажется, источали жар, ноздри дрожали, как у лошади на скачках.
– Ладно, – махнул он рукой, – милиция разберётся…
Но в милицию, судя по всему, Алексашка не обратился – было стыдно, что его, «кавалера в галифе», ловко звезданула какая-то деревенская баба. Для Федякина объяснения в милиции были бы не менее позорны, чем те минуты, когда он валялся в пыли у всех на виду.
Теперь при каждом случае задевал Федякин Кузнечиху, с жидким, ехидным смешком издевался над женщиной. Она рдела до корней волос, покрывалась дурными пятнами, играла желваками на вытянутом, в морщинах лице, но находила в себе силы не отвечать на выпады Федякина. Только иногда казалось, что ещё секунда – и сорвётся с места, снова, как лихой коняга, втопчет в пыль тщедушного москлявого Алексашку.
Именно к этому шло сейчас дело на выгоне. Кузнечиха, опираясь на палку, задышала тяжело, с хрипом в груди, будто катила на себе тяжеленный воз. Наверное, ей было обидно и за корову, её кормилицу, и за себя, постоянно унижаемую этим мужичонкой, которого Кузнечиха может соплёй перешибить. Она вдруг вспомнила, что в руке у неё сухая суковатая палка и ей не грех почесать спину Алексашке. Она даже попримерилась, как ловчее это сделать, но в это время показалась на мосту интересная процессия, и Кузнечиха вместе со всеми уставилась туда, высунув от удовольствия язык.
А к мосту со стороны Демкиного сада приближалась женщина в лёгком летнем платье, худосочная, как осока на болоте, с тоненькими, напоминающими две высохшие подсолнечные палки, ногами. В поводу она вела корову, крепко ухватившись за поводок к настоящей конской оброти, прилаженной на коровью морду. На корове, как на верблюде, качались две перекинутые через широченную спину торбы.
За коровой шагал высокий подтянутый мужик с чемоданом в руке, которым он иногда подталкивал упирающуюся корову. Впрочем, собравшиеся на выгоне быстро сообразили, что второй руки у него нет, рукав гимнастёрки с поблёскивающими в неярком уже предвечернем солнце пуговицами был поддёрнут под кожаный комсоставский ремень с литой остроконечной звездой.
Замыкал эту колонну мальчишка лет восьми, вихрастый черныш, тащивший туго набитый портфель и маленький сидор, притороченный за спиной. Мальчишка шёл босиком, загребал ногами вспухшую дорожную пыль, и за ним тоненьким шлейфом тянулась, как позёмка, узкая белёсая полоска.
Чёрно-пёстрая корова сразу приковала к себе внимание своей нарядной одеждой. Таких в деревне не было. Деревенские Краснухи и Пеструхи наверняка сейчас бы позавидовали своей подруге, её праздничному наряду.
– Видать, издалека топают, – изрекла тихо Зинка Мура, соседка Кузнечихи, рыжая девка, рыхлая, как репа, с лиловым носом, напоминающим варёную свёклу. Зинка жила одна, и скотины у неё никакой не было, но на выгон она приходила, как и все, потолкаться, послушать, о чём судачат люди. Этот пятачок был деревенским клубом, где все беды и проблемы – нараспашку.
– Почему ты определила? – спросила Кузнечиха.
– А разве не понятно? – Зинка резким движением пригладила свои рыжие волосы. – У нас таких коров не водится. Говорят, где-то в Подмосковье такие.
– Врёшь ты, Зинка, – вступил в разговор Алексашка, – как есть врёшь! У меня вон свояк в Рязанской области шофёрит, и у него такая же молоканница.
– А Рязань тебе что, ближний свет? – огрызнулась Зинка. – Небось, дальше Челябинска!
Толпа хохотнула коротким раскатом, и Зинка замолчала, надула свои пухлые губы. Опять земляки над ней потешаются. А виновата сама – вспомнила про этот, будь он трижды проклят, Челябинск. Приключилась с Зинкой одна, может быть не столько смешная, сколько горькая история. Летом сорок второго послали её с группой молодых девчат на рытьё окопов. Война громыхала где-то под Воронежем, а Зинке с подругами предстояло готовить окопы за небольшим степным городком Усманью. За три дня они набили кровавые мозоли, чертовски устали. А тут ещё с кормёжкой плохо, домашние харчи – пухлые пышки из пшеничной муки и сваренные вкрутую яйца – скоро кончились, и девушки с надеждой вглядывались в синеющую, прогретую летним жаром степь. Не покажется ли откуда-нибудь колымага с обедом?
Но знойная степь была пустынна, видимо, о девчатах просто-напросто забыли в военной суматохе. Зинка докопала до вечера, как штык, вогнала в землю лопату до самого черенка.
– Все, девки, я больше не работница!
– Ты что, Зин? – пугливо глядели на неё подруги.
– Знаете, как у нас в деревне говорят? – Зинка зло надула губы: – Мы работы не боимся, лишь бы хлебова была. А раз хлебова нам не припасли, значит, всё, амба. Подаюсь домой.
– Да разве ты дойдёшь? – засомневались подруги. – Ведь километров шестьдесят до дома.
– Мура! – махнула рукой Зинка.
– Неужели ночью пойдёшь? Страшно! – не унимались подруги.
– Мура! – опять отмахнулась Зинка.
Зинка засуетилась и уже собралась уходить, когда подруги не выдержали:
– Ладно, и нас бери с собой!
Так они вчетвером и отправились в путешествие, которое ничего хорошего им не сулило. Они пошли на восток, плохо ориентируясь. Километров через пятнадцать – двадцать, когда совсем загустела темнота, по дороге попался перетёртый мышами скирд соломы. В нём и скоротали ночь, больше всего боялись неугомонных мышей, которые своим писком, кажется, на части рвали сердце.
В родной деревне Зинка появилась на третий день, а ещё через два дня председатель сельского Совета Василий Захарович Черепнин, приехав под вечер, попросил Зинку показать справку.
– Какую справку? – завопила Зинка.