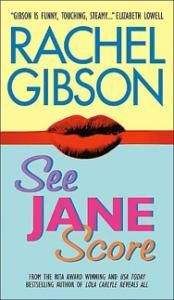Хьелль Аскильдсен
Ночь Мардона
Все улицы имели рабочие названия, Пекарская, Лудильная, Сапожная. Он поставил чемодан на мокрый тротуар и вытащил из нагрудного кармана сложенную бумажку. Кожевническая, 28. Он поплелся дальше. Одна нога была у него короче другой. Ноги и спина мерзли. Спрошу у первого встречного, но им оказалась женщина, у следующей он тоже не спросил. Ладно, сам найду. Магазин был закрыт, хотя фонари еще не горели. Он дошел до моста и подумал, что уже проскочил, как пить дать, но поковылял вперед. Под ним прогрохотал поезд. А я-то был уверен, что там река, если б не поезд, я бы считал, что миновал реку, и никто бы не догадался, как я шел. Так вы идете с той стороны реки? Ребят, смотрите, он с другого берега. Видать, паромщик был пьян — а дочурку свою он на рее часом не вздернул?
Он зашел в кафе, забегаловку, сел в углу, заказал чашку чая, положил шляпу на чемодан, стал ждать. Посетителей было немного; если уложить их в штабель, живот к животу и спина к спине, то получится вполовину высоты потолка. Когда хозяин принес чай, он спросил у него, где Кожевническая улица, и тот ответил, что надо перейти мост, пройти мимо дома немного пьяненького вида, за ним первый поворот налево, потом второй направо, вы не промахнетесь.
Он пошел обратно той же дорогой, через мост, мимо подвыпившего дома, свернул налево, потом направо, но нигде не увидел ни таблички с названием улицы, ни номера хотя бы на одном из одинаковых трехэтажных домов. Он сунулся в какой-то из них, в темный подъезд с тремя дверями, и пожилая седая женщина в синем переднике сказала, что он живет этажом выше, на двери написано, но сейчас его нет дома. Он поднялся по истертым ступенькам, с трудом, медленно, подумал: я тащу груз своих лет. Его дома не было, но дверь стояла незапертая, и он зашел в холодную квартиру с незастеленной кроватью, столом и двумя стульями. Он сел, положил голову на руки и стал вспоминать трудную дорогу — купе в поезде, вдову с сыном, который склонял слово «трахать» на пыльной крышке чемодана, шестьдесят часов без сна или почти без сна, шахтера, который двое суток неумолчно талдычил об извращенности Иисуса и вдруг с криком «Господи! В твои руки предаюсь!» дернул стоп-кран.
Он почувствовал возню у себя за спиной, у приоткрытой двери. Ой, простите, сказала она, я не знала, вы, наверно, Лендер, он говорил, что вы приедете, но не сказал, что сегодня. Меня зовут Вера Дадалави, я живу напротив, пойдемте ко мне, у меня теплее, только, ради всего святого, захватите ваш чемодан.
Следом за ней он пересек площадку; в ее квартире стены были увешаны картинами, рисунками масок, рук и ног да вырезанными из газет стихами, прикнопленными к обоям — серым в зеленых и желтых разводах. Он снял пальто и сел лицом к двери. Это рука Мардона, сказала она, показывая на один из рисунков. Указательного пальца недоставало. Есть хотите? Он был не голоден, только устал. Он сполз пониже на стуле и прикрыл глаза. Когда Мардон придет? Трудно сказать, или вечером, или утром, когда устанет шататься и не найдет другого места поспать. Ночи уже холодные. Придет.
Он рассмотрел длинные светлые волосы, худую спину, газетные вырезки — лично у меня, лет сто тому назад, висели плакаты: люди с серпами и знаменами, шагающие с континента на континент. Странная затея с масками. Вы художница? Как вам сказать, ответила она. Рисую я не ахти. Хотите стаканчик вина? Оно оказалось сладким. Когда вы улыбаетесь, вы похожи на Мардона, расскажите мне о нем, каким он был в детстве? Ребенок как ребенок; но это было неправдой: Мардон ловил птичек и запирал их в комнате вместе с кошкой, а когда ему было одиннадцать, выкрал книги из стеллажа, чтобы оплатить билет в Австралию, на меньшее он не замахивался. Я его плохо знал, он был себе на уме, а я все время работал. А как он теперь — чем занимается? Да вот он сам. Она подошла к двери и открыла ее. Старик (рановато меня так называть) встал и вытер ладони о пиджак. Он сделал два шага навстречу, длинный и короткий. Они смотрели друг на друга, молча. Мардон, Мардон, не бережешь ты себя! — потом так же молча обменялись рукопожатием. У меня руки потные, подумал он; чтоб такое сказать, и в горле пересохло, а у него нет указательного пальца, опа, слезы потекли, только этого не хватало. Я ждал тебя позже, сказал Мардон, я не думал… Они разом повернулись и посмотрели в ее сторону. Она плакала. Я ничего не могу с этим поделать, сказала она, после стольких лет разлуки, в вас столько величия, это так… Они отвернулись, уставились на старенький ковер. Давай, скажи, все равно что. Ты легко нашел? Да, хотя на домах нет номеров. Их воруют; не успевают повесить, как они тут же исчезают. Наверняка кто-то хочет людей попутать. Они снимают номера, чтобы люди плутали? Зуб не дам, хотя меня бы это не удивило. Винцо попиваете? Твоя милая соседка приютила меня — у тебя холодно.
Они сели. Я должен пройтись, подумал Мардон, мне надо привыкнуть к тому, что он приехал. Черт побери, как же он плохо выглядит, и родинка под носом жутко разрослась, наверняка у него рак, он умрет, так и не испытав счастья, жаль его, не будь он моим отцом, которого я помню на скамейке в парке одного под дождем, и на корточках за креслом в темной гостиной, он думал, я его не заметил, и тогда на чердаке, сидящим на свежеоструганном сундуке, — и на полу едва заметные пятна. Мне нужно отойти ненадолго, на полчасика, я забыл уладить одно дело. Отец стоял у окна и смотрел, как он уходит. Эх, Мардон, знал бы ты, как я одинок, ты только у меня и есть. На улице горели фонари. Бедный Мардон, сказала Вера Дадалави ему в ухо. Я тоже Мардон. Вы назвали его своим именем? Это не я, меня дома не было. Вы думаете, он вернется? Конечно, ответила она и накрыла ладонью его руку. Моего отца тоже звали Мардон, добавил он. Понятно, мягко сказала она, вы бы сели. Давайте выпьем. У вас плохое настроение, потому что вы устали с дороги, так всегда бывает, а потом проходит. Вы точно не хотите покушать?
Когда он вернулся, бутылка и бокалы стояли пустые. Ну, вот и я, сообщил он прежде, чем увидел, что отца нет. А где он? В туалете. Мардон, ты выпил. Пожалуйста, будь с ним помягче — его пальцем можно перешибить. Ну и туалет, протянул отец, было похоже, что он смеялся. Здорово, да? — откликнулся Мардон. Давай-ка отметим встречу, сказал он, вытаскивая из кармана бутылку. А мы ведь никогда не пили вместе. Ты просто забыл, возразил Мардон, помнишь тот ресторан за рынком, как же он назывался, мы зашли туда после похорон, потому что я закоченел, маленький ресторанчик с оленями на стенах. Мы выпили по два стакана каждый, помнишь? Нет, не помню. У меня голова была занята другим. Я вообще все забываю. С оленями, говоришь? Да, я бывал там позже, когда вырос и мог ходить один, но к тому времени оленей заменили на обои под кирпич, зато у девушки в баре были глаза такого неземного водянистого цвета, как будто она только вынырнула из моря. Она была писаная красавица, то есть красивым было все выше стойки, а ниже все умерло, она сидела на высокой коляске, и говорили, что ее переехал бульдозер. Что такое? Все в порядке, сказал отец, все хорошо. Можно, я вас нарисую, спросила Вера. Да, пожалуйста, мне пора, надо позаботиться о… здесь есть какой-нибудь отель? Даже не выдумывай, ты ночуешь у меня, еще не хватало. Конечно, это не королевские хоромы, я терпеть не могу обрастать вещами, но белье свежее. Пойду-ка сразу и постелю, чтоб уж все было готово. Да не беспокойся… но Мардона уже не было в комнате. Он сбегает при первой возможности, как от прокаженного, и зачем я приехал. Вы не обращали внимания, что все люди похожи на автомобили? — сказала Вера. Нет. Вы похожи на «форд», а я — на «фольксваген». Пойду помогу Мардону, сказал он, решительно вставая. Дверь была приоткрыта, он толкнул ее. Мардон лежал на кровати и глядел в потолок. Голова закружилась, объяснил он, сейчас пройдет. И поднялся. Ничего у него не кружится, он просто тянет время, ума не приложит, как его скоротать. Это только на одну сегодняшнюю ночь, сказал он, а Мардон не согласился: чего это? Он не ответил, и Мардон подумал: почему я его жалею? И почему я не могу, раз мне его жалко, быть с ним поласковее? Зачем я буду занимать твою кровать — а ты где ляжешь? У Веры. У-у. Вот оно что. Он открыл дверь в стене и достал чистое белье. Я его сын, поэтому он думает, что должен меня любить. Бедный хромоножка, удовольствие продолжиться в сыне обходится недешево. Интересно, что он скажет, если я стану звать его Мардон. Большой Мардон, ты не поможешь мне вдеть одеяло в пододеяльник? Дай-ка я тебе помогу, предложил отец и посмотрел на его руку. Что с твоим пальцем? Пустяки, обычное воспаление. Вот оно что. Без указательного пальца прекрасно можно обойтись. Пойдем обратно?
Она повязала свои длинные светлые волосы коричневой лентой. Так он спит с ней, подумал он. Она старше его лет на десять. А у меня было мало женщин, почти не было, я их боялся, шарахался от них, а объяснял это высокими моральными принципами, надо же как-то величать свои слабости, почему бы не моралью, теперь-то я знаю, что она такое. Как там соседи? Мартенс? — спросил Мардон. Он умер, разве ты не знал. Слава Богу, выдохнул Мардон, а отец сказал: ну что ты такое говоришь. Должен признать, что есть несколько людей, в том числе Мартенс, которым я частенько желал скорейшего вечного упокоения, и вот получилось, ваше здоровье! Почему ты так, чем он тебе не угодил? Он стучал на меня и наговаривал — ты сам знаешь — а однажды… ладно, ну его. Мартенс и фрау Бауске — два сапога пара, но она еще коптит небо, да? Она умерла полгода назад — от рака. Прости, но не могу сказать, чтобы меня это огорчало. Что ты имел в виду, говоря, что я сам знаю, что Мартенс клеветал на тебя, спросил отец. Нет, я не хотел сказать, что ты знал наверное, что он врет, но когда он жаловался, ты наказывал меня, ничего не проверяя. Если это так, сказал отец и опустил глаза, а Мардон встал, отвернулся и подумал: ну зачем я цепляюсь, у меня просто мания ворошить старое, и не хотел я… видно, мне просто неймется сделать ему больно. Он ненавидит меня, понял отец, иначе бы он этого не сказал. Все, чем он мучился эти годы, он теперь навьючит на меня. Надо что-то сказать, думал Мардон, но что? Что я не держу зла? Такого не говорят вслух, я во всяком случае. Только не подумай, что я держу на тебя зло; если б меня это мучило, я б промолчал. Я знаю, сказал отец, что не был тебе хорошим отцом. А не могли бы мы, предложил Мардон, перестать быть папой и сынулей. Давай будем просто людьми, тогда образцово-показательность не потребуется, можно не пыжиться. Если б тебя не звали Мардон, я бы предложил обращаться по имени. Чем плох Мардон? — спросил отец. Это как разговаривать с самим собой, сострил Мардон. Вера засмеялась. Вера, в этом нет ничего смешного. Представь, если б все были просто люди и никакие не родственники, перед которыми у тебя вечно особые долги и обязательства. Наверняка Иисус имел в виду как раз это, когда звал свою мать женщиной. Твое здоровье, старина. Отец поднял стакан. Надо выпить, а то он прикончит бутылку один. Твое здоровье, Мардон. Вы очаровательны, сказала Вера. Не обращай на нее внимания, ей достаточно увидеть сосунка, чтобы разрыдаться. Отец отвел глаза. Он не очень деликатничает. Ишь ты, ему не нравится, что нас одинаково зовут. Мардон Лендер Второй и Мардон Лендер Третий. Тебе мешало когда-нибудь, что тебя зовут так же, как меня и деда? Мардон поднял на него глаза. Конечно. Раз уж ты спрашиваешь, сознаюсь, я часто ломаю над этим голову: с какой нужды родители дают ребенку свое имя? Простейших объяснений два, только не обижайся: или у отца, резонно или нет, очень высокое мнение о себе самом, или мать не до конца уверена, что ее сын от мужа. Не говори так о матери, сказал отец и выпрямился на стуле. Почему? Потому что… Он встал. Давай не будем об этом, не сейчас. Я… у меня нет привычки к спиртному. Если ты не против, я пойду лягу — сегодня был трудный день. Он взял чемодан и пальто. Конечно. Надеюсь, ты хорошенько выспишься. Не сомневаюсь. Спокойной ночи.